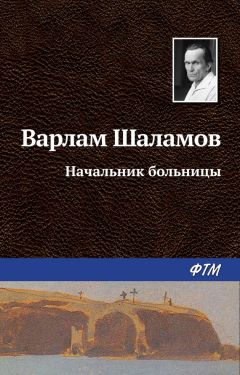Владимир Курносенко - Милый дедушка
Теперь вот он приехал. И шел. И вспоминал. Он, кажется, желал попробовать снова.
Вираж…
Гостиница «Южный Урал».
Когда-то он приходил сюда в парикмахерскую. Из-за маленького роста ему не давали пятнадцати его, и он стеснялся. А кругом носили уже «канадку». Замирая, сесть в прохладное затертое чернокожее кресло и, да, да, сказать, пожалуйста, канадку, а мужичок-парикмахер в белом халате с диагональной вороньего крыла волной по темени (сам кудрявый или уложено так?) будет солидно над тобою кружить и стучать ножницами, по временам щурясь и откидываясь коротеньким туловищем назад. Неловко: такой серьез по такому поводу. А потом р-раз! простынь с шеи жестом тореадора и: «Пожалста!» — и: «Спасибо!..» — и: «Пожалуйста…» — и неизбежное: «Освежить?» М-мм… Освежал, освежал… до рубля. Куды было бороться! И кто б подумал тогда, в ту-то пору, что не пройдет и ста лет, и он приедет, и пойдет мимо (оттуда, из закутка парикмахерской так и пахнуло «Шипром»), поднимется по лестнице в пустой номер, где деревянные буржуйские кровати с мраморными простынями и клозет-т, и будет смотреть на улицу, где в урнах те еще, кажется, окурки, и все нормально, так и надо и само собой, и пожалуйста, можно и душ — по голубому кафелю стекают капельки воды… И внизу в ресторане мясо, кофе и свежая (дневная) улыбка официантки: ЗАХОДИТЕ, ЗАХОДИТЕ ЕЩЕ, МСЬЕ МОНТЕ-КРИСТО, и опять снова на улицы… на истоптанные легконогой твоей юностью, ею, ею. О юность легкая моя!
Кинотеатр «Знамя».
Смотрели тут с Катей «Чапаева». Катя хваталась за рукав, а Чапаев стоял на дороге и молча смотрел, как уезжает Фурманов. Вокруг кричали, махали руками и шапками, а он стоял не шевелясь, расставив на пыльной дороге ноги, и что ему было до выражения чувств. Он их испытывал.
И библиотека.
Сюда можно было сбегать с уроков. Репродукции с Рембрандта, Брейгеля, с непостижимого Леонардо.
И детский еще парк напротив школы. На физкультуре по этой вот аллее бегали стометровку, и Катя на финише кричала ликующим захлебывающимся контральто: «Женька-Женька-Женька-Женька!!!» А на выпускном пили тут на лавочке портвейн, и он поцеловал её, и ничего, ничего хорошего в самом деле в этом не было.
И вот здесь же, по Кирова, шли с Акимом и вели разговор. Зачем рисовать? Зачем? «Ну, скажи мне, зачем?» А Аким молчал и кривил, улыбаясь, свои умные губы. И знал ведь, поди, зачем. Он все тогда знал. Еще говорили о женщинах. О девушках. Взволнованно. Страшно. Окольными все путями. Боясь что-то там оскорбить. В замирающей целомудренной какой-то бесконечности. Ему, дураку, пятнадцать, Акиму семнадцать. А Кати еще нет. До Кати еще год и одно тысячелетие. До Кати разговор.
Улицы, дома… Тусклыми рыбами в сереньком воздухе-воде. Выступающие как в ванночке с ослабевшим проявителем. Было ли все? Не было? Снилось ему?
Броди, выбраживай. Пей его, Город свой. Погружайся. Дыши.
Вернись, поменяй назад кожу, душу, глаза… Возвернись назад, Женечка!
Нет, не очень-то выходило.
И к вечеру, к началу темноты, пришел все-таки к Дому.
Сидел во дворе на лавочке. Глядел в подъезд. Там, в подъезде — вспоминал — было прохладно, там пахло мокрой пылью и не только осенью, как сейчас, но и в самую июльскую жару. Крикнешь, бывало, громко, на шестом этаже взбухнет, покатится вниз по лесенкам эхо, и тоже будто мокрое. Катю сюда приводил. Вот так же темнело и над двором (только нет их сейчас) летали летучие мыши. Странные… Иногда казалось, это просто клочья тьмы, это ночь опускается клочьями, или это просто птицы, воробьи или стрижи, или вообще это мерещится. Но это были мыши, мыши. Они метались над двором, вспархивали… Молнией, кленовым листом. Они чиркали собою по фиолетовому небу. Воздух шелестел. «Чего бояться? Обыкновенные летучие мыши…» Да, да, чего? Такие были смелые. Не боялись. Ни мышей, ни крокодилов — все, дескать, надобно в жизни испробовать. Однова живем! Мудрость мудрых мудрецов. О господи! Принесли как-то простыню, растянули вон там у второго подъезда и поймали одну — разглядеть. Разглядывали… И в самом деле что-то тут такое. Что-то, что будто могло быть, а могло и не быть. Тайное. Жуткое. Только впусти его в себя. Голое… Перепончатое… Без дна, без перил. Из сна, когда сорвешься с крыши. Пропасть. Темь.
И еще у этой мыши были слепые глаза.
Катя трогала пальцем: «Холодное!..» Почему, спрашивала, почему они летают? Ведь они же не птицы, Женька! И слепые… Зачем? И смотрела, смотрела на него черным своим из-подо лба — ответ давай. А он злился, а придумывать он не умел. «Хочется — и летают!» Он и не знал тогда, как близок к истине невразумительный этот ответ. Хочется — и летают. Что хочешь, то и можешь.
«А тебе… тебе хочется?»
И ему хочется. И ему.
Ду-рацкий вопрос. Дурацкий старый двор. И ровно век, как от Пьеро сбежала его Коломбина. Как умерла последняя летучая мышь.
Теперь бы он ответил так: «Мадам! Иной раз нужно ослепнуть, чтобы потом научиться летать».
И вздохнул бы с пониманием жизни, и почмокал бы эдак губами. Не зная, мол, броду, не суйся, друг, в воду. Или: не было бы счастья, да несчастье, вишь, понадобилось.
И прочее.
Из подъезда вышла Любовь Васильевна, управдомша, бывшая соседка с третьего этажа. Толстая, поседевшая, побывавшая будто в рассоле. Нет, нет, подумал, ради бога не надо меня узнавать. «Ой, да это ж Женя!», «Ой, да какой же ты стал!», «А мама как, а папа, а Людочка?». Нет, нет, проездом, инкогнито, скромный граф Монте-Кристо, не более того. Извините меня, пожалуйста. Проходите, Любовь Васильевна. И он прикрыл глаза.
Прошла.
Не взглянув. Переваливаясь на опухших ногах.
Старушки с соседней лавочки ей поклонились. «Любовь Васильевна, Любовь Васильевна…» Заметив, что граф провожает ее глазами, они улыбнулись и ему. И тогда-то он спросил: «Простите, а кто теперь в этом дворе дворником?» Сам не ждал, что спросит… О-ох, как набросились! Натосковались, бедные, по свежему-то человеку. «Мокшин, Мокшин, кто ж еще-то! Аким Алексеич, он!» Двенадцать лет сплошной Мокшин. Заспорили даже. Одна сказала: двенадцать, а вторая поправила — нет! У Риточки родилась Раечка, стало быть, не двенадцать, а тринадцать. И одна (та, что за тринадцать) нервно закурила беломорину, а вторая (помоложе) так и впилась в графа глазами — уж не узнавала ли?! Но как бы ни было, узнавала она или не узнавала, пришлось встать, обтряхнуть штаны и идти туда, к полуподвалу. К Акиму. К Акиму Алексеичу. Это вроде не входило в планы, но он шел, и ноги двигались. «Мужчина аккуратный, — неслось сзади, — не пьеть…» Это хорошо, подумал, не пьет. И спохватился: ему-то что — пьет, не пьет. И понял: еще в Москве, задумывая вояж, про себя он знал: к Акиму зайдет. Это было ему важнее, чем увидеть Катю. Во всяком случае, до встречи с ней. Зачем-то было надо. И сюда, в старый свой двор, он шел именно за этим (к Акиму), а вовсе не для сентиментального свидания с милым сердцу очагом.
Старушки что-то там еще говорили громко, а он стоял уже в каменной яме (Аким жил в полуподвале, в ведомственной дворницкой квартире) и трогал пальцем облупленную коричневую дверь. Десять лет назад вот здесь же, у этих дверей, он стоял, и песок… песок скрипел под его ботинками; он простоял тогда час или, может, десять минут, переминаясь, как лошадь в стойле, а в груди, тяжело раскаляясь, грелся тогда у него кирпич. А он стоял и не уходил. А потом все-таки ушел. Хотя ничего не изменилось, только кирпич провалился ниже, в живот, а про себя он так и не понял, зачем приходил. Убивать?
Кого же, если… Акима? Катю?
Было около двенадцати ночи. Он пришел домой, тихонько открыл ключом дверь, и, когда доставал из шкафчика деньги, мать подняла голову: «Ты чего, сынок?» И… ничего, ничего, мама, шепотом, а в руке уже была десятка, и задом, задом, на цыпочках, побыстрее вон. Белая лестница в полуподвал синей была под синей луной. Хорошо соображал. Как зверь. Зверь, проглотивший кирпич. У таксиста на площади сторговал бутылку водки. Таксист пить отказался, но стакан дал, и конфетку, и даже дал закурить. С тех пор граф, между прочим, и курит. Он выпил стакан водки и шел по пустой улице, задирая голову в небо, и ржал. «Бу-гха-гха, — ржал, — бу-гха-гха!» И фальшь была, и пакость, но задирал и все ржал, ржал, будто кому-то там назло. А потом стучал в облупленную дверь, бил кулаками в нее, ботинками, лбом. «Откройте, — кричал, — открывайте! Убью! Убью, суки!»
И Аким открыл ему. Он был в плавках. Белая кожа светилась под синей луной. Бело-голубой торс над черными плавками. И спросил тихо, еле слышно, как полчаса назад мать:
— Ты чего?
Аким сидел за кухонным столом и ел картошку. Молодую, зажаренную прямо с кожурой. На губах, между сжатых губ, было молоко. Он был совсем новый, лысый, лысина до шеи, живот. Совсем, вовсе новенький, только хуже. Ах, как он изменился! Страшно. Словно в фуфайке он сидел.