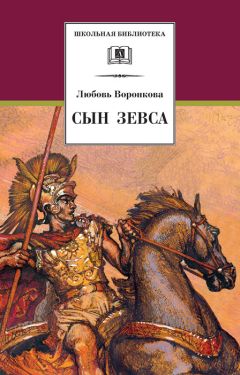Ольга Коренева - Белая ласточка
— «Новый мир» шестой номер, пожалуйста.
— Как фамилия?
— Смирнова.
Надежда Александровна склонилась над столом, послюнила палец, и формуляры в длинном узком ящике послушно замелькали под ее ладонью. Кожа на ладони была желтая и тонкая, словно папиросная бумага. Потом повернулась к полкам, пробежала глазами по корешкам журналов, нужный достала.
— На, возьми, — протянула девочке толстый журнал в мохристой отрывающейся обложке. «Надо бы переплести...»
Прости, опять я тоску на тебя нагнал. Зачем я стал рассказывать тебе о ней? Может, потому, что она на твою бабушку похожа?
...А теперь ты сидишь на лекции в шестой аудитории, сидишь за последним столом и читаешь Гофмана, ты расплетаешь свои косички и снова заплетаешь их — и даже не замечаешь этого. Тебе они идут. Светлые, коротенькие, густые. Тебе идет курносый нос. Послушай, что я расскажу тебе. Я — ясновидец. Хочешь, расскажу тебе вон о той девушке, ярко накрашенной, со взбитыми волосами? Рассказать?..»
Она закрутила конец косички тонкой аптекарской резинкой и распустила другую. Волосы распушились, приятно щекотнуло щеку, запахло шампунем. Снова разделила мягкий, теплый поток волос на три пряди. Пальцы привычно перебирали пряди, стягивая их в тугую косицу. А глаза снова и снова возвращаются к одной и той же строке. Читает Гофмана, но думает о другом. «Эх, ты, — думает, — а еще ясновидец. Ведь ты видишь все, кроме самого себя, кроме того, что тебя касается. Или у вас, ясновидцев, так принято? Ты знаешь все про какую-то старую библиотекаршу, про мою бабушку, про девушку, что сидит сейчас у окна троллейбуса. Ты ревнуешь меня к тому, к Виктору, и совсем напрасно.
Нет, обо мне ты не знаешь самого главного. А значит, ничего не знаешь.
А я все время вижу тебя... Вот и теперь ты глядишь на меня из страниц, из букв книги, из окон и стен. И твое лицо, круглое, чуть скуластое, роднее всех родных лиц, знакомее всех знакомых, как будто мы видимся с тобой каждый миг вот уже тысячу лет или еще больше. Вижу твои короткие темные волосы, твои глаза, внимательные и застенчивые, пристальные... Я знаю, о чем ты думаешь сейчас. Научилась угадывать твои мысли за тысячу лет дружбы с тобой. А ты не знаешь? Или у вас, ясновидцев, так принято — не знать о себе самого главного? А за окном — шоссе, тихое и задумчивое, как ты, и ветер гонит по нему сухие листья, медленно несет листья...
Почему это ветер их так медленно носит?
Открываю глаза, как большие цветы;
«Это ты?» — а кругом оголтелая осень...
«Это осень?..» — спрошу.
А в глазах — только ты...
Не думай больше о других. Не смей думать. Не думай о той девушке с пышной прической у окна троллейбуса. Не гляди на нее, отвернись...»
«Я не надоел тебе, нет? Знаешь, ведь ясновидцы порой надоедливы. О, тебе даже интересно со мной? Ну, раз так, то расскажу тебе о себе.
Ведь, знаешь, мы с тобой в одном общежитье живем. Только ты на четвертом этаже, а я на третьем. И у меня теперь, знаешь, лекции позже начинаются. Но просыпаюсь я рано. Я стою на лестнице и угадываю твои шаги. Вот ты пошла умываться. А теперь — на кухню. Жаришь яичницу с гренками? Ой, у тебя чай бежит!
А потом за тобой заходит твой парень, он на втором живет. Вот он поднимается к тебе. Везет же некоторым.
Топот, бег, толкотня. Это второй и третий курс торопятся в институт. Первый еще спит, они ведь всю ночь глаз не смыкали — говорили, читали стихи, пили, пели! Им все интересно, все внове.
А вот и ты, заплетаешь на ходу косички, и он рядом. Проходишь мимо меня — и не видишь. Не замечаешь меня. Не знаешь.
И снова едем в одном троллейбусе. И я приезжаю в институт на два часа раньше, чем надо, ведь занятья-то у меня позже.
Иногда ты ночуешь у подруги, и тогда я еду на другой конец города, где подруга твоя живет, и жду твой троллейбус. И опять вместе мы едем к институту. Но ты сходишь на нашей остановке, а я качу дальше, все дальше, до конца. А потом пересаживаюсь и качу обратно. И смотрю в окно, в которое вчера смотрела ты. И как всегда, рассказываю тебе всякую всячину, а ты и не знаешь об этом. И твержу твои стихи, все твои стихи.
А радуга как подкова счастья,
Для нас! Но только век ее — миг.
Прости, что я знаю твои стихи. Я тебе не надоел? Нет? Правда? А хочешь, расскажу тебе всю твою жизнь? Ну, не буду, не буду».
Ясновидец достал из кармана своей куртки перчатку и принялся натягивать ее на ладонь. Перчатка была ему явно мала, скрипела и хрустела, наконец налезла, только сморщилась на пальцах, собралась колечками. Ярко накрашенная девушка с любопытством взглянула на него и усмехнулась. Ясновидец неожиданно резко покраснел, даже уши стали алыми, полез в карман за другой перчаткой, вытащил, повертел ее в руках, сунул назад. Спрятал туда же ладонь — ту, без перчатки. И вразвалку подошел к дверце троллейбуса. На следующей остановке он вышел.
КАРПОВ И ЛИДА
Карпов подошел к шкафу с «делами», сердито распахнул дверцу. Три верхние полки были туго набиты папками, и ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вытащить из этакой теснотищи нужную. При этом еще две папки выдернулись из ряда, шумно шлепнулись на пол, пыль взметнулась над ними. Карпов чертыхнулся. Он был не в духе сегодня. Он послюнил палец и принялся перелистывать истрепанные листки. Куда же запропастилось это проклятое «Письмо от начальника СМР», черт побери? Вон и «Замечания к пусковому комплексу» здесь, а письма нет. А ведь он обе эти бумажки вместе в «дело» подшивал. Сам подшивал, собственноручно. Он всегда свои документы подшивает сам. И вот теперь, когда это письмо несчастное так ему нужно, оно исчезло. Ух, палки-колеса!..
Он перевернул страницу «дела», и вдруг явственно ощутил, что на него смотрит дверь, входная дверь, два ее глаза горячо отпечатались на его щеке. Карпов осторожно скосил взгляд. Резко обернулся... Нет. Ничего особенного. Дверь как дверь. Никаких глаз. Просто устал, закрутился совсем. Он пролистнул последнюю страницу, и начал все просматривать сначала. Может, нужная бумажка склеилась с другой, сцепилась, и он прозевал ее?
Дверь нагло ухмыльнулась.
Нет. Чушь какая-то мерещится. Измотался. Да где же это письмо, наконец?
Зазвонил телефон. Начальник СМР, наверно. Кстати, кто там у них теперь на СМР?
Карпов оглянулся. Городской телефон переставлен на подоконник. Небось, Аббасов переставил. Дурацкая привычка все переставлять. Карпов видел, как девушка за пишущей машинкой инстинктивно протянула руку в угол стола и схватилась за воздух, потом обернулась, подскочила к подоконнику, взяла трубку:
— Алло? Да?
Причесанная под битника, в брюках и свитере, худая, на мальчишку пятнадцатилетнего похожа.
— Минутку, — безразлично сказала она в трубку, пододвинула к себе столик с местным телефоном, сняла трубку и тронула задумчиво диск, припоминая номер телефона одной из комнат их отдела.
Так она стояла с двумя трубками в одной руке, а другой, свободной, крутила диск местного телефона, когда Карпов вновь почувствовал на затылке эти внимательные, словно прицеливающиеся глаза. Но на сей раз на него глядела не дверь. Кто-то неслышно вошел.
— Кого там? — негромко спросил появившийся за его спиной Аббасов.
— Вас, — Лида опустила на рычажки трубку местного телефона, и пододвинула ему городской.
Аббасов, сухой, высокий, ступал быстро и осторожно, ссутулясь, локти прижав к бокам. Он пересек комнату своей мягкой настороженной походкой и, прежде чем заговорить по телефону, перенес его в угол, на стул. Карпов с неприязнью рассматривал его сосредоточенно спокойное, тщательно выбритое лицо, его безукоризненно отглаженный костюм, сидевший на нем великолепно, накрахмаленные манжеты с янтарными запонками, и думал со злостью о нем, о том, что у Аббасова никогда не бывает срывов, промахов в работе, о его сдержанности и спокойном достоинстве в разговорах с кем бы то ни было и о том, что если будут сокращать их переполненный штат, то сократят, конечно, кого-нибудь из молодежи, как наименее опытных сотрудников, и Аббасов наверняка останется, а он, Карпов, полетит, как тут ни вертись и ни лебези перед начальством.
В управлении Карпов работал недавно. Всего полтора года, как он кончил институт, и ему чудом удалось устроиться на это место с весьма приличным окладом. Так повезло! И он слишком боялся потерять это место. Ведь здесь есть возможности для роста, повышения... Часто думал об этом Карпов, строил всякие планы на будущее...
Голос Аббасова прервал его размышления.
— Аман Царакович, все уже решено, — сказал Аббасов в трубку.
Во взгляде его сквозила какая-то непонятная, затаенная усмешка, взгляд его блуждал по комнате, и когда останавливался на Карпове, тот доверительно улыбался Аббасову. Детское, простодушное лицо было у Карпова. Внутри у Карпова все кипело. Он вдруг поймал себя на том, что хочет понравиться Абббасову, робеет перед ним, будто он начальство. И вспомнился подслушанный им случайно в коридоре разговор секретарш об Аббасове: «Ну-у, этот далеко пойдет», — тянула одна уважительно. Другая перебила: «Большому кораблю...» — «Подумаешь», — пренебрежительно бросила третья.