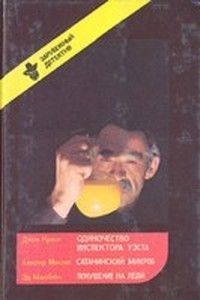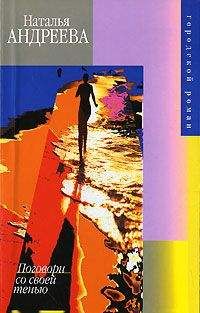Юрий Дружков - Кто по тебе плачет
— Так хочется проснуться и пойти на работу. К остановке троллейбуса… Подождать… прокомпостировать билет… Смотреть в окно. Выйти у газетного киоска… Налево, направо… Толкнуть нашу стеклянную дверь. Снять перчатки. Бросить сумку на стол. Увидеть надоевшие милые лица… Разное было… Хорошее, плохое… радости, обиды… Кто и что про кого сказал, подумал… А теперь не могу без них, скучаю. Нет сил, как увидеть хочется…
* * *Смотрю на деньги, сморщенные после воды. Разложил их на столе. Неплохо было бы купить на эти сушеные деньги билет, вернее два билета к Москве, увидеть наконец-то, что лежит за краем леса, первый дом после этого леса, первую станцию. Две недели ехать по неохватным равнинам, полям и лесам, видеть в окно города и села. Чтобы вагонный проводник поил нас дорожным чаем, а я бы ей говорил, что чай не идет ни в какое сравнение с чаем кафе-шалмана «Кому шишки, кому пышки». С ее чаем…
* * *Помню, как однажды показали мне сторублевую бумажку с ликом царицы Екатерины. С каким смутным волненьем разглядывал и трогал я тот опавший лист с великого дерева, усохшего, давно отшумевшего дерева. Символ могущества, которого больше нет, знак величия, которого не существует, обрывок декорации забытого спектакля, бумажный клочок…
В одной книге исповедь человека про самый первый день оккупации врагами деревянного русского городка… Самое первое ощущение — был страх пустоты. Удалилось, пропало, исчезло что-то надежное, незаменимое, крепкое, большое, которое могло единственное охранить, заступиться, не дать никому в обиду… Не стало, как пишет он, того чего раньше не замечал. Государственности…
Скрипучее слово. Но мы оторваны от него, нам уже неудобно и беспокойно. Пустота. Ждем чье-то вмешательство, участие, заботу о себе… Хотя все под рукой…
Да что со мной?… Слюнтяй. Раз есть у меня еще немного времени, пока не сморил сон, почитаю книжицу «Видеомагнитофон „Мираж“». Надо вникнуть в него когда-то. Сложный прибор, ломать не хочется.
Деньги мы спрячем в бумажник… На дорогу.
* * *Льет проливной дождь. Хорошо, если недолго. Вдруг дожди перейдут в осенние, обложные? Для меня — беда. Не знаю, как на стройках, я в дождь работать не пробовал.
Деваться некуда. Сижу в кафе напротив нее, смотрю, откровенно разглядывая милые губы. Почему собственно милые? Такими же они раньше были. Притягивают что ли? Ресницы, глаза, лицо. Волнуюсь от ощущения наглости, словно теперь, чтобы глянуть в ее глаза надо черпнуть из глубины себя немножко храбрости. Но ведь я смотрюсь в них почти все лето. Может быть, скользил мимолетно взглядом, а сейчас волнуюсь от непрошеной смелости, от близости.
Какая ты женственная, хочу сказать я.
— Хочешь, — говорю, — кино покажу?
— Где, в кладовке? — наливает она чай.
Как наливает, как наклоняет голову, как подает мне чашку — все движения волнуют меня легкостью, женственной плавностью. Догадывается ли она, как я странно переменился? Попробуй, пойми по этим улыбчивым губам и женственно милым глазам.
Охрани меня, великая нежность, от наглости… Она в закрытой полотняной кофточке, а я вижу, чувствую мои губы на ее обнаженном плече.
— В гостиной, да еще у камина, конечно, приятней, — слегка посмеиваюсь я.
— Зачем при таком отоплении камин?
— А если трубы лопнут?
— Лопнут? В мороз? — она поежилась.
— Но ведь я с тобой, — впервые как бы хвастаюсь этим я. Верный признак тяжкой болезни.
— Ты добрый, — очень просто и ласково говорит она.
— Вот «Мираж» начал осваивать, скоро налажу телевизор.
— Пленки? «Мираж»… не надо, — голос у нее совсем потерянный.
Какие мы стали пугливые с ней. Мираж, ну и что? Не отечественный прибор. Назвали, не помышляя, как попадет он к двум оторванным от всего… К нам…
Люди, с подземных пещер мечтали оставить о себе зримую память. Хоть что-нибудь о себе. Углем рисовали на стенах, лишь бы не уйти в никуда, в пустоту, в ничто. Лепили из глины смешные свои фигурки, резали в дереве, долбили в камне. Потом рисовать научились почти живых и бессмертных. Потом фотографировать. Потом и вправду начали двигаться, говорить, звучать навсегда. С полотна, с экрана, с пленки. Уходя, оставляли другим свой мир, свою жизнь. Успокоенные перед неизбежным, что живут и действуют вместе с нами. В миражах и виденьях в словах и мыслях, в памяти зримой как наяву.
А мы вдвоем страшимся к миражам прикоснуться… Так что изменилось в нас?…
— Призраки людей…
Кольнула меня глубокой безнадежностью, от которой уже не плачут, и прятать ее нет сил, и жаловаться некому.
— Глупая ты…
Чувствую как голос мой дрогнул. Еще немного и я кинусь к ней буду гладить, целовать опущенные руки.
— Хорошая, славная, красивая, милая, добрая, умная, неповторимая, — срывается у меня то, что наверное, можно было и не говорить. А слова неудержны. — Прошу тебя… мы… я с тобой… ты… я. Зачем так? Что тебя так?
Она закрыла руками лицо и заплакала. Безмятежное с виду, чуть насмешливое лицо, которое стало вдруг таким жалобным и беззащитным. Я понимал, что эти слезы останавливать не надо.
— Бананы, — горько произнесла она. И это нелепое нежданное теперь слово рассмешило, вроде бы остудило меня, как пригоршня воды.
— Бананы, — улыбаясь мокрыми от слез губами. — Ты не видел, какие это бананы… исландские…
— Что ты говоришь?!
— Дыни исландские, гранаты исландские, кофе исландские. Записи про них, как про детишек в детском саду… маленьких, живых… Такое не могли бросить… не могли… беда заставила.
— Ненаглядная ты моя, — сказал я совсем непрошеное слово, — беда бывает разная, всякая… Не плачь, а то и я зареву.
— Ты не можешь… где тебе…
— Ну так уж и не могу? Наследственность у меня подходящая… Мне в гараже на ногу железяка упала, так заплакал почти я, мой мальчонка. Плакал за другого. Но я весь в него.
— Ты не в него… железяка…
Ну вот и прокапалась тучка, просияла.
* * *Да, я потом увидел это. В амбарной книге все той же незнакомой рукой сделаны записи. «Банан кенийский. Селекция Исландии. Рейкьявик. Дыня „гуляби“. Селекция Исландии. Рейкьявик. Дерево кофейное „арабик“. Селекция Исландии. Рейкьявик…». Дальше наставления: как ухаживать, как смешивать землю, подвязывать, поворачивать к искусственному солнышку один бочок, другой, как увлажнять горшочки с черенками, как пеленать завязи.
Будто про детские горшочки. Про детские панамки. Про смуглые детские спинки…
* * *Ночью сон. Кружатся в хороводе неведомые зеленые деревца.
Человек в зеленом халате, как за руки, держит их нежные ветки, шевеля губами: «ладушки-ладушки… ладушки-лады…». Очень похожий на парня, игравшего тогда в карты.
В другое время сон показался бы мне глупым.
* * *И все-таки, не слишком ли подробно я веду мои записи?
Но разве есть в нашем заточенье что-нибудь важней услышанного слова, движения души, поступка другого человека? Все, что прежде казалось мелким, незначительным, буднично простым, казалось в той жизни…
* * *Работать осатанело. Можно ли так? Я работаю. Валюсь вечером в постель размягченное блаженным бревном и засыпаю. Давно уже не брал дневник. Строки мои кирпичные, ровные, тяжкие, несдвигаемые.
Приладил большие софиты с четырех сторон, подключил в кабель и день у нас длится до вечерних одиннадцати. Когда человек — невидимка зажигает свет под зеленым колпаком оранжереи, для меня как сигнал. И я зажигаю софиты, мгновенно включая вокруг себя ночь.
Настигает меня потемневшая осень.
Днем еще вальяжно тепло. Сухой воздух, сама поляна стрекочет кузнечиками, сладко манит настоянным сеном. Утром поднимаюсь на дом — кирпичи, застылый цемент обдают ледяной твердью, пронизывают холодом, затаенным с ночи. Но завтра я начинаю ладить крышу! Благословен конец любой работы. Благословен итог. Правда, мне до конца далековато. Крыша на этом доме означает еще один этаж, невысокий, без окон.
Вчера подвел к нему дорожку — лестничный пролет с перилами. Соединял ранцевым автогеном. С третьего этажа на самую крышу по схеме пойдет железная лестница. Над люком будет небольшой выходной флигелек. Эту лесенку тоже надо приваривать.
Заодно хотел срезать на беконных плитах железные петли. Но зашла посмотреть на мою работу она и очень удивилась такому невежеству. Петли не режут, а загибают кувалдой. Тут и мне можно было удивиться ее познаниям. Да говорит, бегала наблюдать, как строили кооперативный дом.
* * *Пришло время убирать картофель.
Я когда-нибудь убирал картофель? Нет. На картошку не посылали. Не довелось. А для горожан — это наказание, морока. Но было так, что попадали на картошку те, кому вдруг немыслимо повезло. В тяжкий послевоенный год маму послали уполномоченной по доставке из Рязанской области картошки в Москву. Пожилой кадровик так и сказал: «Ну вот, семью горяченькой побалуешь, рассыпчатой…».