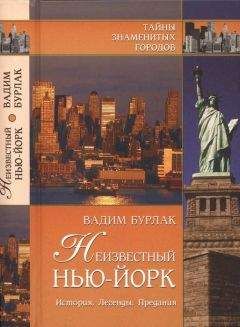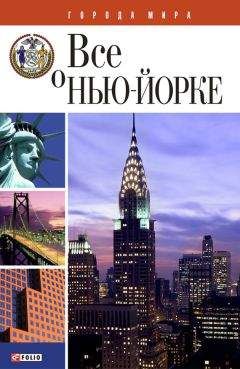Алексей Шельвах - Приключения англичанина
Утром в город вступили «стражники», не встретив сопротивления со стороны мучившихся жесточайшим похмельем бунтовщиков, кои так ведь и просидели всю ночь в кабаке, содвигая кружки и призывая друг друга отдать жизнь за независимость Каледонии.
Заковали их в кандалы и увели в Эдинбург.
Пастора, однако, среди задержанных не оказалось. Позднее стало известно, что бежал на север, в горные регионы, но карабкаться по скалам, преследуя старика, командир «стражников», кстати, англичанин, посчитал ниже своего достоинства. Также сей истинный джентльмен, явившись в трактир «Вересковый мед», дабы арестовать хозяина (отъявленного, как значилось в приказе, смутьяна, к тому же пирата в прошлом), и, узрев беспомощного Тимоти и безутешную Рэчел, не нашел в себе силы выполнить приказ.
Разумеется, искали и главнокомандующего мятежными войсками, сэра Александра, – он же, будучи объявлен в розыск, ничего об этом не знал, ибо после разрыва с патриотами тотчас выехал из Форсинара, надеясь застать родителей еще живыми. Застал уже бездыханными. Похоронил и занялся сельским хозяйством, изрядно запущенным за последние месяцы по причине увлечения Беатою, неверность коей воспринял весьма болезненно, о чем свидетельствуют вирши, найденные моим отцом в семейном нашем архиве:
Ты, посулив блаженство,
Лишила мя степенства
В манерах и речах.
Извелся и зачах.
Беата bona roba,
Сказать не премину,
Что был готов до гроба
Тебя любить одну.
Геройские деянья
В твою свершая честь,
Мечтал без одеянья
Увидеть всю как есть
И впрямь до самой смерти
(Не мысля умирать)
Златые пукли эти
В перстах перебирать.
Мечтами наслаждался,
Наивный человек,
Однако не дождался
Обетованных нег.
Толь явны для прочтенья
В бесстыжих очесах
Иные предпочтенья…
Увы! Увы и ах!
Кокетка виртуоза,
Несносная заноза,
Из сердца – вон! Изволь
Не причинять мне боль!
…Сэр Александр обмакнул перо в чернильницу, поставил точку и посмотрел в окно. Над зеленым овсяным полем взошло солнце. Блестели радужные росы. Слышалось щебетание ранних пташек.
Нежданный отряд специального назначения приближался к замку, наперерез спешил всадник, размахивая шпагою. Наружность его показалась сэру Александру знакомой. Через миг он точно узнал баронета Армстронга. Тот повернулся к нему бледным от чувств лицом и закричал: «Спасайся, Александр! Беги! Я прикрою!» Раздалось несколько выстрелов, и баронет упал с коня.
Спецназовцы уже барабанили прикладами по замковым воротам, но, слава богу, не только таким подлым демагогам, как пастор Леннокс, или таким дешевкам, как Беата Барнет, удается безнаказанно уходить от ответственности. Сэр Александр избежал пленения, покинув замок через потайной ход.
…ах, Беата, Беата, я уже не помню, как ты выглядишь (выглядела), – кажется, глаза у тебя были голубые, а волосы желтые… или каштановые? Впрочем, это неважно, главное, с течением времени я начал сомневаться: может, ты вообще мне пригрезилась? Ну да, привиделась, примнилась. Ведь нет у меня никаких доказательств реальности твоего существования, не сохранились даже вирши, тебе посвященные – не успел запихнуть их в карман куртки, когда пускался в бега, а впоследствии не удержал в памяти, что не удивительно: переправившись на Континент, нанялся на военную службу и сражался под знаменами Фридриха Великого, изведал тяготы походной жизни, потрясался гибелью товарищей по оружию, знакомился с женщинами, иными, не скрою, увлекался, но лишь для того, чтобы забыть предмет первой, юношеской любви своей, чтобы воспоминания о тебе вытеснить в подсознание. Так и не обзавелся ни семьей, ни хоть какой-нибудь недвижимостью. По неисповедимой воле Провидения доживаю век в дебрях Нового света, окруженный краснокожими дикарями, кои перебили и скальпировали всех жителей поселенческой нашей деревушки, меня же пощадили, ибо поразил их своим отрешенным взором – восхищенные, допытывались, как сумел я достигнуть столь высокой степени безразличия к смерти? Поведал им историю моей нещастливой любви. Преисполнились сострадания и выделили мне скво и вигвам. И вот на старости лет напрягаю извилины, силясь воскресить твой образ, оказывается, забвенный. Какие же все-таки были у тебя волосы? Ей богу, запамятовал.
А вот некую форсинарскую улочку помню очень даже отчетливо: вереницы островерхих домиков, слюдяной дождик, брусчатка под фонарем как черная икра, и при порывах ветра раскачивается вывеска с золочеными буквами. Эх, знал же я, что в целом графстве не сыскать мне более чужого человека, чем ты, догадывался же об этом, сидя рядом с тобой в опере (зевала как удав), слушая дикие твои высказывания о книгах, которые приносил (ни одной не дочитала даже до середины), наблюдая, как деловито принимала мои подарки, неизменно забывая поблагодарить, и все равно продолжал верить, что, в конце концов, проникнешься искренним ко мне чувством, а может, уже и прониклась, просто стесняешься признаться, такая по-шотландски сдержанная девушка …
Что же ты не даешь мне покоя, зачем тревожишь воспоминанием о разочарованной юности моей? Почему до сих пор не избыть мне обиду? Эге, вот, значит, в чем дело. Выходит, всего лишь уязвленное самолюбие нудит меня писать сии строки, а вовсе никакая не любовь? А коли так, то довольно стыдно мне быть злопамятным и через годы сводить с тобой счеты, с тобой, уже, быть может, ставшей прахом.
Ах, нет-нет, все не то я пишу, не то, и не так, и не о том …
* * *
Из дневника переводчика
Зеркально-гладкий вал вращался.
Резец умеренно искрил,
А токарь с воздухом общался,
И горевал, и говорил:
– Дано мне было первородство,
я был возможен как поэт,
но поступил на производство
во цвете юношеских лет.
Не пил и матом не ругался,
И был в бригаде одинок,
Но с кем силенками тягался?
Не с государством ли, сынок?
Не с государством ли коварным
(оно восточное не зря),
воистину тоталитарным,
еще точнее говоря…
Как принц и нищий, каждый день я
К станку проклятому вставал,
А по ночам произведенья
Из букв отважных создавал.
Жар юности и жанр протеста!
Так соблазнительно воспеть
Себя – вне времени и места!
А выспаться и не успеть…
И бил будильник дни и годы,
Не исключая выходных,
И не хватало мне свободы
Не для себя – для букв моих,
Для творчества, с которым худо,
Но без которого – не жить.
Но если не достоин чуда,
Что толку карандаш крошить?
И бил будильник дни и годы.
Блистающий вращался вал.
Я по утрам щепотью соды
Уже изжогу изживал.
Над экзистенциальной бездной
Я реял, но пошел ко дну
И там из череды любезной
Нашел желанную жену.
Она была дитя Востока
Из города Алма-Ата,
Не более, чем жизнь, жестока
И, как Россия, молода.
С косой почти до голенища,
С лицом уснувшего судьи,
Велела мне: «Ищи жилище
Для нашей будущей семьи».
Эх, токарь-пекарь, горы стружки,
А все-то жалкие рубли!
И у процентщицы-старушки
В любовной лодке мы гребли.
И если мурка отдыхала,
Зажмурив узкие глаза,
Я, выпрыгнув из одеяла,
В оставшиеся полчаса
До государственного гимна
Для виршей разводил пары…
Удовлетворены взаимно,
Мы так и жили до поры,
Когда и нам приспело время
Винить Венеру и Луну,
И оплодотворило семя
Распахнутую целину…
Я больше не парю над бездной,
Мне утром тяжело вставать.
А за станком, в пурге железной,
Нелепо и протестовать.
Зеленый от борьбы с нефритом
И отложением солей,
Я стал двудетным и небритым,
Как узник совести своей.
Теперь, услышав гимн спросонок,
Испытываю я испуг,
И поубавилось силенок,
А соответственно, и букв.
Не думал я, что так случится.
Жизнь – от стакана до станка!
И точка в темечко стучится,
И задыхается строка.
Ничем от всех не отличаясь,
Теперь я в цех вхожу гурьбой
И никогда не огорчаюсь
Своей сверхличною судьбой.
Лишь в матерщине заиканьем
Я выдам прежнего себя…
А вал вращается, зеркальный,
В упор сознание слепя.
Утром, пробегая вдоль квартала, слышу выстрелы – это хлопают двери парадных. Люди выскакивают на улицу, как будто началось восстание.
Вот именно «как будто». Окстись, Алеша. Эта власть переживет и тебя и твои метафоры. Так что засунь их себе в задницу и поспешай на производство, пока не объявили выговор за систематические опоздания.