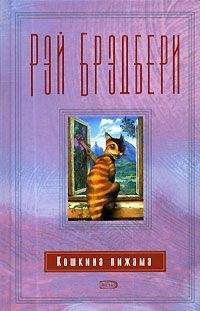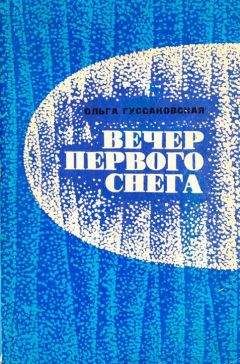Вера Галактионова - На острове Буяне
– В поэзии бродят высшие смыслы, Броня! Не практические… Да.
– И правда что, лучше бы на вино они перебродили. Яблоки эти… Смыслы, конечно, смыслами. А когда в них, в смыслах, добро портится да рушится всё кругом – хоть как: неприятно. Не люблю я что-то, когда про порченое пишут. Что не люблю, то не люблю.
Козин рассердился. Но тут же заговорил сочувственно и тихо:
– Милая женщина, если бы вы только представляли, с кем вы связались… А знаете, на кого вы сейчас похожи? Вот так, в полупрофиль? В полутени? Видели вы когда-нибудь Венеру Боттичелли? Смотрите же! Вот репродукция! – широким жестом он показал на магазинную картину, висящую над тумбочкой на кривом гвозде. – Сколько прелести в её совершенной наготе!
– А вот это ты брось. И даже мне не начинай! – решительно перебила его Бронислава. – А то у меня рука – тяжёлая… Я на свою мать родную похожа! На Парасковью Ивановну, царство ей небесное. А не на этих. На всяких. Которых без трусов рисуют.
Козин отошёл к окну, занавешенному чудной, полосатой как матрац, шторой. Задёрнул её поплотнее, до зеленоватого сумрака в комнате.
– Непонятно, но – бодрит… Вы, Броня, телевизор-то смотрите хотя бы? – вздохнул он, заметно поскучнев.
– Зачем? – удивилась она. – В нём нерусское всё. Как при Кочкине сломался, так тёмный и стоит… Я вон к Зинаиде зашла – там одно и то же. Или мужики врут, или девки гарцуют. А из одёжи-то на них, на девках – так: уздечка одна… Прикидываются все только, что русские. И вот ведь не устают, бедные, притворяться-то без конца… Умора!
– Не знаю, как насчёт уздечек, а уж вы-то, точно, поставили на тёмную лошадку… Эх, Броня, Броня. Думаете, чем он там сейчас занимается? Ваш избранник? Перед бутылкой? Чем? – участливо твердил Козин и качал головой то ли с укором, то ли с огорчением. – С Кешей у вас ничего не сложится. Никакого толку не будет, Броня, дорогая. Нет…
– Чегой-то не будет? – покосилась на Козина Бронислава. – Он пока что не уехал ещё. А и уедет – десять дней как раз в городе помыкается да и вернётся. Ему там и приткнуться негде.
– Вполне может не вернуться, – вздохнул Козин. – Если пристроится, конечно… Этот человек, Броня, не знает чувства привязанности и чувства благодарности. Он, Броня, так…
– Вей-ветерок, что ли? – подсказала Бронислава.
– Вот-вот: Кешка – ветерок. Веющий необязательный ветерок. Разве можно этого не видеть?
Козин опять кашлянул, подсел ближе и положил руку на её колено. Туманный, размытый, неопределённый вопрос плавал в его глазах.
– …Вернётся, – мрачно усмехнулась Бронислава, не отодвигаясь. – Я слово такое знаю.
– Что за слово?
– Так, одно слово. Не веришь, что ль? – засмеялась она. И с угрозой сказала: – Ну, слушай, если не веришь! Только отвернись. Не гляди на меня!
Она прикрыла глаза – и скороговоркой предупредила:
– Целиком не расскажу – целиком чужим знать не положено. А когда не целиком, оно недействительно.
И заговорила нараспев:
<s>« …На море, на океяне,
<s>На острове Буяне,
<s>Там сидит чёрный ворон
<s>Без ног, без ясных очей.
<s>По мосту-по мосточку
<s>Шли три девицы,
<s>Три родные сестрицы.
<s>Они не учились
<s>Ни ткать, ни прясть –
<s>Только русый, чёрный волос…»
Вдруг Козин отодвинулся с поспешностью. В дверях стояла высокая, глазастая женщина. Она куталась в оранжевую шаль и смотрела на Брониславу, щурясь, будто сквозь дым.
– …Русый волос, чёрный волос выговаривать, – не видя Брониславы, тихо продолжила женщина. И ушла.
Проводив её взглядом, Бронислава усмехнулась.
– …Вот видишь, и она дальше при тебе не сказала! Чтоб это слово силы для чужих не имело: не положено! – торжествуя, заметила она.
– Жена, – буркнул Козин и затомился. – Ну-у… Сейчас начнутся припадки ревности. Да, Броня: приступы беспричинной ревности, и так – каждый день: я на это обречён. Женщины не хотят делить ни с кем того, кем они дорожат.
Бронислава оглядела Козина с презреньем:
– Ох, не похоже что-то. Врёшь ты всё про неё!.. Чего ж это ты грязноротый такой, а? Грязноротый у нас тот называется, кто с женщиной намилуется, а потом про неё чего-нибудь обскажет. А хоть бы и хорошее! – пояснила она. – Хорошее – оно ведь тоже: любую испачкать может. Поэтому наши-то мужики про своих краль – молчат, крепко-накрепко. А тебя вот сразу и видать: что не наш… Грязноротый!
Козин заметно побледнел.
– …Красивая она, жена твоя, – продолжала Бронислава сочувственно. – Не тебе ровня. Только худая. Ну, это оттого, что гордая. Гордые, они ведь все худые. Как хворые они, гордые-то, живут… Видишь, и слово знает, а не наговаривает… Я, правда, тоже сама никогда ни на кого не наговаривала. Даже на Макарушку… Потому что грех это страшный! Грех большущий, громадный на душу ложится, если насильно человека к себе привяжешь. И душа твоя никогда уж не взлетит больше. А придавленная к земле всю жизнь будет: ой, тяжёлая станет душа! Низкая, как у червяка поганого… А жена твоя не наговаривает – не поэтому. А знаешь, почему? Потому, что – не нужен ты ей!
– Так уж и не нужен! – возмутился Козин. – Да кто её возьмёт?! С моими детьми?
– Возьмёт. Всё знаю. И к гадалке не ходи… Тебя-то уже с ней – нету.
– Что за чушь, в самом деле! – заёрзал Козин. – С чего ты решила?
– А по глазам вижу. В глазах у неё тебя – нет. Давно нет. Одинокие они, глаза. Далёкие… Вот посмотришь, в них другой появится. Они для другого открытые уже – не для тебя!
Козин вскочил, снова взял с тумбочки исписанный какой-то листок и принялся было читать, отвернувшись, но тут же с треском разодрал его в мелкие клочья.
– Так значит, с этого твоего белого стиха Кешка может вернуться? – пытался успокоиться Козин и криво усмехался.
– Если с него вернётся, толку в этом мало, а зла много. Он ведь тоже – как невольник тогда со мной будет: как мертвец – он будет со мной. И тепло – оно уж никогда к нам не вернётся… Если не наговаривать, то тепло – возвращается, даже через много лет, хоть расходись, хоть разъезжайся. А если наговаривать, то уж никогда. И будешь ты не человек, а колдун! Или колдунья, – поправилась она. – Сгорбатишься раньше время. И двадцать лет потом любая твоя молитва не примется, вот какой это грех. Двадцать лет без всякой помощи будешь ты по земле не ходить, а ползать только, как змей иль змеючка!.. Да, как гадина распоследняя. И каяться замучишься, и прощенья устанешь просить, пока сроки не выйдут… А если помрёшь в это время? Прямо в ад и ухнешь. А нам ведь – на небушко положено. Да.
Бронислава опустила голову и задумалась. Но вдруг выпрямилась.
– А вот доводить нас до греха – не надо. Понял?! – погрозила она Козину кулаком. – Раз довёл кого до греха, значит – сам ты ещё больше согрешил. И тебя – сильней, чем меня, придавит, если что!
– Так ты – православная?
– А то! – с гордостью подтвердила Бронислава.
– А как же ты, грешница буянская, языческие тексты тогда проговариваешь?
– А нам так путь лёг. От них – к Сыну Божьему. А от Сына Божьего – к Богу триединому: к всея твари Содетелю, – степенно рассудила Бронислава. И повторила: – Уж такой путь нам лёг. Что ж теперь.
Козин завздыхал:
– Есть у меня знакомый священник, Броня. Он бы тебя сильно сейчас поругал! Ведь произносить даже нельзя то, что ты читала. Это ведь, милая женщина, обращение к тёмным силам. К тем, которые оставляют человека всегда – с битыми горшками. С пустотой оставляют, Броня! С пус-то-той!
– А я что? Взаправди, что ль? – непонятно усмехнулась Бронислава. – Ты сам-то, может, и без стишка всякого, больше моего тем силам служишь. Вот, при пустоте, значит, скорей меня останешься… Да ты при пустоте давно, поди-ка, и живёшь!
– Чудные вы здесь, – стыло улыбался Козин. – Что – ты, что – жена… Она местная тоже. Ваша.
– Не больно-то она и наша, – поджала губы Бронислава. – Её девчонкой сопливой отсюда увезли. Они всей семьёй когда ещё в город переехали!.. Недавно она после учёбы-то вернулась. Её и не помнит здесь никто, жену твою.
– Зато она – помнит… – уныло ворчал и озирался по сторонам Козин. – Перетянула. В глухомань. Где жить культурному человеку невозможно. Тут вам – и птицы без голоса, тут вам – и женщины без сердца… И Кешку, надо же, тоже сюда закинуло, бедолагу. Вот не ожидал, признаться.
– С сердцем мы или без сердца, а всё равно: здесь он останется! До самой смерти своей! Вот поглядишь! – засмеялась Бронислава, не слушая Козина.
– Ой, как сурово! – не поверил ей Козин.
– Ему теперь другой дороги нет, если на меня нарвался. А кто мне пакостить будет!.. – Бронислава встала, подбоченилась и прищурилась. – Я ведь и килу посажу. Ох-х, как пить дать – посажу!
В дверях она обернулась и решительно добавила, погрозив кулаком:
– Такую килу, уж такую грыжищу здоровенную, что в могилу человека утянуть может. И ни один врач не вылечит! Ни врач не вылечит, ни старуха не разговорит. Вот!.. – топнула она пяткой.