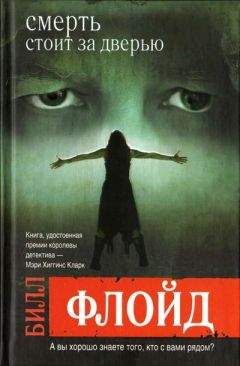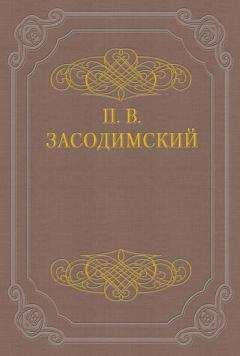Мишель Фейбер - Близнецы Фаренгейт
— Пап, я и сама бежать могу, — задыхаясь, произносит она, и я опускаю ее на землю. За нами, на заправке, слышится звон разбиваемого стекла и следом — визги и крики. А мы с Тэсс несемся сквозь тьму, сквозь миазмы дизельного топлива.
Несколько минут спустя мы уже стоим на шоссе. Не на съезде с него — на покрытой гравием обочинке сплошного участка. Тут повсюду торчат плакаты, твердящие, что поступать так не положено, однако извещения эти тонут во мраке. Только из трети стоящих вдоль шоссе фонарей и изливается хоть какой-то свет, да и настолько жидок, что приводит в недоумение даже насекомых, льнущих к фонарным стеклам. Небо черно, как смоль, беззвездно. Висящая над горизонтом луна, размазанная, точно кислотный ожог, мягко подсвечивает очертания зданий — города-призрака.
— Мы доберемся до дома, Тэсс, — обещаю я, после того, как мимо нас со свистом проносятся три темных машины.
Дорога Тэсс не интересует — она, покусывая губы, вглядывается в меня. Ей нужно что-то сказать, сообщить мне нечто особенно важное, однако Тэсс чувствует, что услышанное может оказаться для меня непосильным.
— Мама спит при полном свете, — говорит она, наконец, с таким видом, точно это сообщение непременно должно свалить меня с ног. — Он по всему дому горит. Весь. Я выключаю свой, когда мама заснет.
Разумеется, я и понятия имею, как мне к этому отнестись. Я с мудрым видом улыбаюсь, киваю, как будто все понимаю, — как с Джоном, когда он рвет и мечет, обличая врагов, на мой взгляд совершенно безобидных, — как когда-то с женой, пытавшейся объяснить мне, в чем нуждается женщина.
Появляется стремительно налетающий автомобиль с включенным дальним светом. Я поднимаю вверх большой палец, отчаянно машу всей рукой, от плеча. Автомобиль даже не сбавляет хода, и я едва не врубаюсь рукой в зеркальце со стороны пассажира.
— Под колеса не попади, пап! — молит дочь. Хотя нет, скорее, приказывает — кулачок ее вцепляется в полу моего пальто.
Я отступаю на шаг, жду следующей освещенной машины. Двадцать, тридцать темных проносятся мимо. Некоторые сильно помяты, у некоторых различаются на кузовах малопонятные пятна и подтеки. Водитель одной опускает стекло и орет нечто неразборчивое, все же остальные вполне могли оказаться пустыми скорлупками.
Между этими надеждами и их крушениями шоссе остается тихим и пустынным, точно каньон. Интересно, сколько мы уже здесь торчим, думаю я, и смотрю на часы. Электронные цифры их исчезли, обратив часы в бесполезный браслет.
Теперь остается только одна мера времени — постепенное угасание дорожных фонарей. Огромный грузовичище с прицепом, нарисовавшись в дали, сбавляет ход и останавливается около нас именно в ту минуту, когда издыхает последний фонарь. Мы, не очень веря глазам, смотрим, как он приближается — чудовищный, грязный, с целой решеткой фар, сияющих в полную силу. Когда грузовик встает перед нами, из под замасленного брюха его вырывается волна тепла и дизельных ароматов. Кабина водителя висит над землей так высоко, что мы не видим — кто там внутри. И несколько мгновений просто стоим и смотрим.
— Ну так чего, ехать-то, на хер, будем? — осведомляется хриплый мужской голос.
И я выпадаю из оцепенения, рву на себя дверцу кабины, пытаюсь поднять Тэсс, подсадить ее на железную приступку. Она, вывернувшись из моих рук, вскарабкивается, будто мартышка, наверх, оставив меня с ее сумкой в руках. Я лезу следом, зашибаю в спешке голень, мне страшно, что неведомый этот мужчина, увезет мою дочь в темноту.
Едва мы оказываемся в кабине, — я еще не успеваю и дверцу захлопнуть, — как грузовик трогается с места.
— Спасибо, — говорю я, стараясь не закашляться в густом сигаретном дыму.
— Да чего там, — отвечает шофер. Это настоящий великан, вышедший в тираж культурист, безобразный, но завораживающий. Поседевшие волосы его напомажены, рожа размером с лопату красна и покрыта щетиной. Говоря, он не отрывает налитых кровью глаз от дороги.
— Слезь-ка с рычага передач, — требует он. Тэсс сдвигает ноги, прижимает их к моим. Мы приникаем друг к дружке, отец и дочь.
— Куда направляетесь? — спрашивает шофер, обгоняя две темных машины. При этом он включает еще какие-то огни, как будто света у него в запасе, хоть залейся.
— Я… дочь возвращается к матери. В Кесуик.
— Это, на хер, где же такой?
— В Камбрии.
— Я ни в какую Камбрию, на хер, не еду. Я на склад.
— А где находится склад?
— В Карлайле.
Я не знаю, что сказать, и потому говорю: «Хорошо». Карлайл стоит не в миллионе миль от места, в которое я пытаюсь попасть, другое дело, что я и понятия не имею, куда, собственно, направляюсь. Дом жены сейчас укрыт непроглядным мраком. Дом Джона — мой дом — вероятно, тоже. Все, чего я хочу, это найти маленький оазис света, в котором можно будет устроить дочь, надежно и безопасно.
— Как вы думаете, свет в вашем складе есть?
— Да уж лучше бы был, на хер.
— А если нет?
— Ну, с этим я быстро разберусь.
Самообладание его вдохновляет, раздражает, пугает и влечет. Мне хочется схватить его за рукав и попросить — пожалуйста, пожалуйста, — объясните мне, что за чертовщина творится вокруг, как вы полагаете? Но я боюсь спрашивать, даже вежливо и спокойно, — а ну как он скажет, что не знает, а вдруг зарыдает-завоет, этот огромный, сильный мужчина с ручищами, как у Арнольда Шварценеггера. Пусть уж его уверенность в себе останется неоспоренной, пусть он делает свое дело, пусть держится света, в который верит так слепо.
Сквозь меня прокатывает волна тошноты, и я понимаю вдруг, что спал в последний раз уже очень давно. Обе ночи уик-энда я провел в постели любовника, ругаясь с ним, отстаивая право человечества на продолжение рода. Вместо того, чтобы дрыхнуть ночи напролет, я таращил глаза, вымаливал поцелуи прощения, выдумывал дурацкие теории заговора, объясняющие, почему на удивление хорошую, пользующуюся такой популярностью пьесу сняли со сцены после десяти представлений. А если мне все же удастся добраться до дома Хизер, она вряд ли предложит мне подушки и одеяла. Я откидываю голову назад, досчитываю до десяти и продолжаю считать дальше.
Шоферу, похоже, Тэсс интересней, чем я. Может, и у него есть дочь — или счастливые воспоминания о ней.
— Пора бы уж и в постельку, а? — улыбается он краем рта.
— Еще рано, — отвечает Тэсс. Узнать время по часам, которые светятся на приборной доске, труда ей не составляет.
— Верно, верно, — говорит шофер. — Так где была-то, м?
— В гостях.
— Здорово.
— Мне папин друг книгу подарил.
— Отлично.
— А можно я свет включу? — спрашивает Тэсс, указывая на выключатель внутренней лампочки.
Шофер качает головой:
— Пока я веду, нельзя. Закон не велит. Мне за это могут срок впаять.
Тэсс, надувшись, скрещивает руки на груди. Некоторое время мы все молчим, сидя поверх гигантского мотора, который ревет и содрогается под полом. Я смотрю в окно. С такой высоты мне хорошо видны окрестности — особенно теперь, когда не горят дорожные фонари. К моему удивлению, я вижу, что еще сохранились разбросанные там и сям по тонущему во мгле ландшафту дома и постройки, в которых свет горит как ни в чем не бывало. Время от времени, мы минуем деревни, и я различаю световые знаки — единственный работающий светофор, подсвеченные церковные часы, даже вывеску магазинчика, — удивительным образом сияющие в почти кромешной тьме. Никакой логики, никакой объясняющей хоть что-то причины я во всем этом усмотреть не могу.
Шофер наш тянется за новой сигаретой. Чиркая, безуспешно, спичками, он придерживает руль локтями. Я протягиваю руку, предлагая помощь, однако он пожатием плеч отвергает ее. Три неудачливых спички падают на пол и, наконец, он сдается, бросает коробок через плечо. Впрочем, из приборной доски торчит зажигалка, от нее он и прикуривает. Кончик сигареты, когда шофер присасывается к фильтру, вспыхивает яростно и ярко.
Тэсс поерзывает, обмякая и вновь выпрямляясь, сплывая в бессознательность. Потом осторожно припадает щекой к спинке сиденья, помаргивает, пытаясь разглядеть за стальной сеткой невидимый груз.
— Что там сзади? — спрашивает она.
— Всякое разное, — отвечает водитель.
— Какое разное?
— Секрет.
Она вздыхает и неторопливо погружается в сон. Шофер, встретившись со мной взглядом, подмигивает, потягивается, расправляя спину, поводя плечищами, пощелкивая суставами пальцев, и усаживается поудобнее, чтобы везти нас и дальше, сквозь ночь.
Мышь
Он только что проскочил сквозь огненный ад, пистолеты в руках раскалились, и тут экран залила ровная синева. Не смешно. Совсем не смешно. Игра была дьявольски трудной, и меньше всего он нуждался в отказе компьютера.
Манни резко откинулся на спинку вращающегося кресла, так что оно затрещало. Он был взбудоражен, вспотел. Играть в «Беглянку» — переживание высокооктановое. И когда ты вот так вылетаешь из игры, самое огорчительное состоит в том, что начать с места, с которого тебя выкинули, ты не можешь, весь «квест» приходится начинать заново.
![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](/uploads/posts/books/159613/159613.jpg)