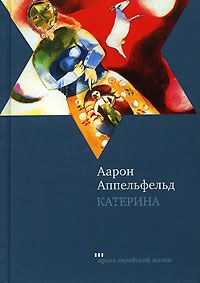Аарон Аппельфельд - Катерина
Спустя минуту, поборов удивление, она ответила:
— Взяли их.
— Куда их взяли? — продолжала я расспрашивать не своим голосом.
— Куда их судьба повела, матушка. Такая их доля. А разве ты ничего не знаешь, матушка? — лицо ее было бесхитростным.
— А тебе не страшно? — вырвалось у меня.
— Что ж тут страшного, матушка, Бог взял их. А ты откуда, матушка?
— Из тюрьмы, — не колеблясь, ответила я.
— Слава Богу, — сказала она и перекрестилась. — Слава Господу, освобождающему узников. Долго ли ты просидела?
— Около сорока лет.
— Господи спаси и помилуй! Возьми вот свежих фруктов, — сказала она и протянула мне горсть слив.
— Спасибо, дочка.
С тех пор, как заключили меня в тюрьму, не видела я слив. Иногда просачивалось в барак немого сморщенных яблок, которые торопливо съедались, так что и огрызка не оставалось. Вид слив растрогал меня, словно это был дар небесный.
— Спасибо, дочка, за чудесный подарок. Никогда этого не забуду. А добрый Боже воздаст тебе в своем милосердии всем прекрасным, что есть у него.
— Спасибо за благословение, — сказала она и поклонилась, как это принято в деревне.
— Как зовут тебя, матушка?
— Катерина.
— Боже праведный! — воскликнула она и раскрыла широко глаза. — Вы — Катерина-убийца!
И без промедления, словно встретился ей на дороге сам сатана собственной персоной, взмахнула она кнутом и стегнула лошадей. Лошади, испугавшись внезапного удара кнута, встали на дыбы и рванули телегу с места.
Глава тридцатая
Я не двинулась с места. Дневной свет слился со светом ночи, а ночь в это время года коротка, как удар сердца. Едва положишь голову на солому, как уже пробивается рассвет. Я знала, что должна что-то предпринять, двинуться вперед или хотя бы возвысить голос, но тишина, что окружила меня со всех сторон, была густой и необъятной, ноги мои отяжелели, словно налитые свинцом.
Вдалеке двигались возы, груженные клевером. Я знала, что скошен клевер не более часа назад, что пройдет совсем немного времени — и наполнят душистой травой широкие ясли. Ребятишки прыгали едва ли не под самыми колесами, как когда-то прыгала и я — когда была в их возрасте.
— Эй, там? — крикнула я.
После встречи с той крестьянкой я прислушиваюсь к каждому шороху, мужику-убийце деревня прощает, женщине — нет. Женщина, убившая человека, испокон веков считалась чем-то ужасным, на, ней лежало проклятье — таких следовало уничтожать, мужик-убийца, отбыв свой срок, возвращался в родную деревню, женился, обзаводился детьми, и никто не поминал ему его прошлое. Но женщина-убийца навсегда оставалась убийцей. Я это знала — и не боялась. Наоборот, мне очень хотелось подойти к возам и помять в руках клевер. Но они проехали мимо…
Тут я вспомнила, что в длинные летние вечера евреи обычно приходили в деревню, развешивали свои товары, раскладывали их на самодельных прилавках. Были там даже прилавки с невиданными фруктами — финиками и фигами, прилавки с кремами, притираниями и благовониями, с домашней утварью, с мехами, которые носят в городе. В сумеречном свете летних ночей эти торговцы выглядели древними жрецами, которые волшебством оживляли разложенные перед ними вещи. Эту летнюю торговлю все называли «долгий еврейский базар». Они торговали всю ночь, и под утро цены падали вдвое. В такие ночи я не спала, и мать, зная об этом моем пристрастии, загоняла меня домой хворостиной. Но я все-таки исхитрялась украсть. Иногда — вместе с Марией, но чаще — одна. На летнем базаре все были опьянены призрачным ночным светом, отблесками озера, воды которого завораживающе сияли. На том базаре можно было купить все: башмаки, туфли на высоких каблуках, бусы, ткани и даже прозрачные шелковые чулки. Но юной моей голове не дано было постичь чудо тех ночей. Страсть к воровству была сильнее всего, и все, что можно было украсть, я крала. Бедная Мария, во время нашей последней встречи на вокзале на шее ее были бусы, которые мы вместе стянули у евреев. И она уже в лучшем из миров, и только летний свет, этот вечный летний свет струится так же, как струился он испокон веков…
Я с трудом двинулась вперед. Ночь надо мной становилась все светлее. Меня мучила жажда. Голодные тюремные годы убили во мне чувство голода, но ощущение жажды — оно вечно. Я напилась воды из озера и впервые увидела свое лицо: не Катерину лугов и полей, и не Катерину железнодорожных вокзалов, и не ту Катерину, что служила у евреев. Немного волос осталось у Катерины, лицо ее — худое и старое.
На некотором расстоянии, на склоне мирно курился дымок над домами. Я знала, что все собрались за столом, и хозяйка подает свиную грудинку, картошку и капусту. В длинные летние вечера трудно уснуть, даже грудные младенцы в люльках не спят и ловят переливы ночного света. На миг позабыла я о грузе прожитых лет и окунулась в те, памятные мне с детства, мгновения покоя и добра.
Но это продолжалось недолго. Запах чего-то горящего коснулся моих ноздрей. Сначала мне показалось, что поднимается он от оврагов, где днем паслись коровы. Запах этот не был тяжелым, удушливым, он почему-то напомнил мне те гулянки на траве, что устраивали летом в рощах Мария и ее приятели. Парни, бывало, крали птицу в селе, забивали ее и жарили на угольях. Было мне тогда около двенадцати, и вид битой птицы, распростертой на горячих углях, очень пугал меня. Мария сердилась и нагоняла на меня еще большего страху:
— Ты не должна бояться! Если ты так пугаешься мертвой птицы, то кто спасет тебя от рук убийцы?
Уже в те годы вела себя Мария так смело и дерзко, будто была она не юной девушкой, а диким лесным созданием.
Страх, который испытывала я в те мгновения, словно вернулся ко мне, и я заставила себя двинуться вперед. Ноги мои отяжелели, но я шла, не спотыкаясь. Ночной свет стал более приглушенным, однако все вокруг было ясно видно. Дуга стелились по склонам холмов, погруженных в голубизну.
Я чувствовала что-то необычное, но что — понять не могла.
Голова моя словно стала пустой, и с каждым шагом это ощущение пустоты все усиливалось. А еще я почувствовала сильное желание выпить. Долгие годы я не прикасалась к рюмке. То, что пили женщины в нашей тюрьме, было хуже помоев. Я вспомнила, что в свое время я пообещала Биньямину не пить, но сейчас я знала, что не сдержу своего обещания. Если вдруг появится крестьянин и протянет мне стакан — я вырву его из рук.
Так стояла я, вся во власти нахлынувшего желания, и тут распахнулись небеса, и горний свет залил голубые луга ослепительным сиянием. Я подняла голову и пала на колени.
— Катерина! — услышала я голос.
— Я — раба твоя, Господи, — ответила я тотчас.
— Сними обувь с ног твоих, ибо свято место, на котором ты стоишь.[3]
Я сняла обувь, распростерлась на земле и закрыла глаза. Долгое время пролежала я, погруженная в себя, однако голос не прозвучал вновь, не заговорил со мной.
Когда я, наконец, подняла голову, я увидела, что неподалеку от меня стоят какие-то заброшенные развалины, вернее, две стены рухнувшего дома. Пустые оконные проемы заливал свет.
— Что мне делать, Господи Боже мой? — произнесла я, сама не зная, о чем я говорю.
Небо не открылось вновь, но свет оставался ослепительным и вслушивалась я изо всех сил. Приблизившись к развалинам, я увидела, что глаза не обманули меня: когда-то это был еврейский дом. На дверном косяке еще были видны следы мезузы — особого футляра, который прибивается справа при входе в дом: в него вкладывается кусочек пергамента с написанной на нем молитвой. Все в доме — каждая полочка, каждый крючок, каждый гвоздь — были вырваны с корнем, а то, чего не доделали руки человеческие, довершили ветры.
— Да возобновится жизнь в этом священном месте, — сказала я, переступив порог. Свет внутри был еще резче, чем снаружи. Я простерла руки, чтобы воззвать к Господу, Владыке небесному, но тут я увидела, что жуткая сыпь на руках исчезла и руки мои стали такими, как прежде: четыре коротких пальца и один большой — утолщенный.
Глава тридцать первая
В этом открытом поле нет секретов. Крестьянка, что повстречалась мне на пути, рассказала обо мне, и слух этот полетел, словно на крыльях птицы. Теперь крестьяне, стоя на склоне, показывают на меня: «Вот она, вот это чудовище!» Очень мне хочется выломать какую-нибудь хворостину, подняться к ним и стукнуть как следует. Дрожь пробегает по рукам моим, и я чувствую, что есть в них сила, но, увы, ноги не те — тяжелые, распухшие. Тем не менее я не могу смолчать и во весь голос кричу им: «Мерзавцы! Вы священнослужителей зарезали, осквернили жертвенник их, и отныне нет здесь Бога!»
Еще той ночью я застелила соломой пол в развалинах, что остались от еврейского дома и, о чудо, маленькая охапка соломы преобразила эти руины. Теперь я часами сижу и читаю «Псалтырь». Чтение псалмов опьяняет меня, обостряет все мои чувства, и вскоре я ничего не вижу, кроме таинственной игры света.