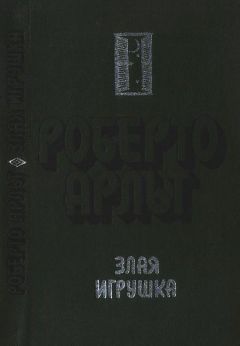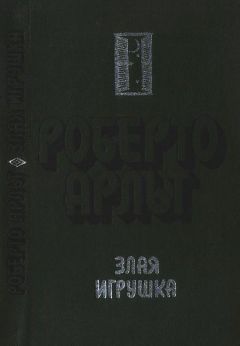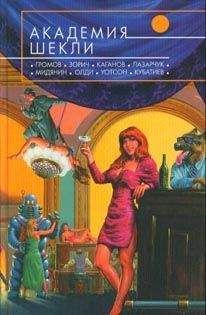Джулиан Брэнстон - Вечные поиски
Теперь кобыла, привязанная у дальнего конца моста и наблюдавшая за происходившим с лошадиной веселой иронией, решила, что раз все остальные вздумали поплавать, так чем она хуже? Она сбросила небрежно накинутые ей на шею поводья и протопала в воду, не без тревоги и торопясь нагнать Старого Рыцаря, чьи песни о крылатых скакунах и золотых героях все еще живо звучали в ее ушах.
Чемпион по боксу вернулся к Онгоре и стоически доложил обо всем произошедшем. Онгора впал в ярость, обожал его «пустоголовым павианом» и объявил, что теперь придется вести поиски не только старика, но и их мозгов. По мере продолжения этой тирады чемпион по боксу впал в мрачную угрюмость. Наконец он сказал, что связываться со стариком – прямая дорога в ад. Чего же еще ждать, ловя Дон Кихота.
– О чем ты говоришь? – грозно спросил Онгора.
– Либо книжка ожила, либо в книжку его запихнули живьем, – ответил чемпион по боксу, – потому как разницы между ними и на волосок нет.
Для Онгоры это явилось откровением, и он мог только застыть, разинув рот на вытекающие отсюда следствия.
Путь поэта
Унижение, ярость, откровение – наутро после чтения Онгора вновь пережил их. Но имелись и компенсации. Он получил пакет, листы сатиры герцогини с приложенной запиской, написанной ее тщательным почерком, в которой – а он внимательно перечитал записку несколько раз – не крылось ни намека на то, что она горда своим творением. Записка содержала просьбу прочесть рукопись и подготовить ее для публикации (если она ее достойна), как они условились. Тут он улыбнулся ее доверию. И понял, что она едва ли могла вообразить, что ее продуманные строки окажутся в небрежной физической близости с ним, только вставшим ото сна, в халате на голом теле. Это его приятно щекотало: ее олимпийский горний воздух и бодрящий ветер, и его смрад остывающего жара Диониса, эссенция его наслаждения. Он упивался потаенными правилами их письменного общения – пока он ублажал ее иллюзии, она ублажала его чувственность.
Он положил прочесть сатиру незамедлительно. Ознакомился с ней еще до конца утра и убедился, что короткое произведение вполне оправдало, если не превзошло его надежды. Он займется ее опубликованием как можно скорее, одновременно принижая ее в мыслях герцогини с помощью, да-да, чрезмерных восхвалений. Будет достаточно, думал он, распространить ее при дворе, и до истечения месяца Сервантес станет всеобщим посмешищем. Все будут ломать голову, кто написал такую отличную вещицу. И вот тогда он деликатно, будто шепот в склепе, даст понять, что автор – герцогиня. Десятком фраз, написанных за один день, герцогиня докажет всю неприемлемость Сервантеса для двора. А затем он, разумеется, распустит слух, что ментором герцогине в ее новообретенном сатирическом таланте был не кто иной, как скромно улыбающийся лучший поэт страны и в ближайшем будущем – избранник императора.
Ночью к нему пришла Микаэла, распаленная своим выступлением на сцене. Поскольку герцогиня не выходила у него из головы, он не удержался от сравнений. Его актриса, размышлял он, и его Богиня. Какая ирония, подумалось ему, что Микаэла в какой-то преходящей пьеске играла богиню. Она никак не была создана для божественности, ведь особенности ее привлекательности – язвительность ее языка, грубое кокетство, инстинктивная алчность в ее глазах – все предупреждало об опасности.
Они пили вино, болтали, о том о сем. Им нравилась жесткость друг друга. Пока их честолюбивые устремления занимались любовью, мысли Онгоры вернулись к возможностям, заложенным в завершенной сатире.
А потом, когда Микаэла мирно упокоилась под одеялом, сознание Онгоры продолжало бодрствовать в темноте. Он знал, что сатира герцогини, без сомнения, попадет в цель. Но не исключено, что можно что-то добавить. Почему бы ему не написать, как принято, предисловие, написать анонимно, и опубликовать его с сатирой как единое целое. И тогда предисловие и сатира убедительно докажут, что проза Сервантеса лишена каких-либо достоинств, что так писать может кто угодно. И поражение Сервантеса будет полным.
Он встал с кровати, быстро облачился в халат и зажег светильник на письменном столе. Теперь, когда у него появилась тема – смешивание с грязью другого человека, – язык его пера обрел нужное красноречие. Его предисловие представляло собой издевательский каталог ран Сервантеса, его сексуальной неадекватности и низкого социального положения. Голос насмешки сделает унижение абсолютным, подумал он, и уж если это не смешает Сервантеса с грязью, тогда он, Онгора, никогда уже больше не благословит свою руку.
Много времени ему не потребовалось. Онгора спустил с цепи собственные раны. Пусть эти несколько абзацев пролежат, подумал он, до утреннего света. Он вернулся в постель к обжигающему жару грудей своей любовницы и, разморенный ее вздохами и неотразимостью своих коварных замыслов, погрузился в сон, грезя о лавровых венках и всеобщем восторженном признании.
Инструкции, как напечатать сатиру
Утро для Роблса выдалось нелегкое. Его подручный уже принес ему для напечатания кипу рукописей, которые были серыми даже больше обычного. Пролистывая их, он не находил ничего, кроме пошлостей и нелепостей. И тут он спросил себя, не зависит ли его репутация печатника от своеобразного ассортимента выпущенных им диатриб, точно так же, как его репутация мужчины, а вернее, отсутствие ее, опирается на пожилой возраст в сочетании с красивой женой. Эти памфлеты задумывались как серьезные труды, а затем не достигали цели, думал он, и точно так же я женился, но мне еще предстоит завоевать любовь моей жены. Искренность цели или желания не приводит к задуманному.
– Диего, – прозвучал нежный голос его жены. Вид у нее был испуганный. И мгновенно она оказалась в его объятиях, цепляясь за него, будто ребенок.
– Что случилось? – спросил он, чувствуя, как она дрожит. – Я встал рано. Предстоит много работы.
– Это был кошмар, – сказала она, обнимая его еще крепче.
– Так, может быть, тебе стоит записать его и напечатать? Во всяком случае, он будет лучше большинства этих глупых небылиц, – сказал он, кивая на рукописи, завалившие его стол.
– Жестокий мужчина, – сказала она ему в плечо, – который хотел исколоть меня шпагой.
– И тут ты проснулась, – сказал Роблс, реалист во всем, – и нашла перо в матрасе стержнем вверх, и подумала, что пора завтракать, и спустилась вниз, и попала в объятия своего любящего мужа.
Она отодвинулась и посмотрела на него очень серьезно. Богиня, подумал он.
– Вот так? – спросила она.
– Одна из странных тайн, – сказал он. – Человек видит сон, что он в буран заблудился в горах, а потом просыпается и обнаруживает, что окно открыто, и в комнату хлещет дождь.
Теперь она глядела на него с тем, что казалось ему ее обычной детскостью. Но в ее внимании – ее сияющих глазах, чуть полуоткрытых губах – было что-то, чего он прежде не замечал. Он сел на край стола, и их лица теперь оказались на одном уровне.
– Ты помнишь, как тебе приснилась твоя мать? Что она собиралась поехать отдохнуть. На ней была дорожная одежда, и она благословила тебя и велела присматривать за домом. Она была очень счастлива. Ты помнишь? – Она медленно кивнула. – А через неделю она умерла. – На глаза у нее навернулись слезы. – Ну-ну, – сказал он, – по же удивительная история, а не печальная.
– На ней была ее дорожная мантилья, – сказала она. – И такие прекрасные перчатки.
Роблс ничего не сказал, потому что ему как раз открылась великая тайна. Он понял теперь, как вызвать ее преданность. Любовь для нее была чем-то простым, лишенным сложностей. Она от всего сердца подарит ее, если только он найдет время потакать ее снам, выслушивать ее страхи и рассказывать занимательные истории. Что может быть легче? И почему, едко подумал он, ни единый из них эрудированных и эзотерических памфлетов не сумел объяснить мне, что это тайна и даже у Бога нет власти разгадать ее. Хотя, если на то пошло, подумал он, совсем другой вопрос, почему его собственный мозг не разгадал ее. Лучше отложить до задушевной беседы между ним и бутылкой вина.
В этот момент колокольчик на двери печатни забрякал. Роблс и его жена находились в задней комнате. Достигнув такого уровня близости с ней, Роблс не хотел его утратить. Он торопился внушить ей, что для него это наиболее важный момент на всем протяжении их брака. И он страшился вторжения заказчика в эту их интимнейшую минуту. Из мастерской донеслись новые звуки. Он сделал жене знак молчать, а затем сказал вполголоса:
– Я должен пойти туда. Но вскоре, если ты не прочь, мы могли бы позавтракать вместе.
Она кивнула:
– Я всегда ставлю прибор для тебя. Но ты ведь никогда не приходишь. Ты всегда занят. – Все это она сказала без тени упрека.