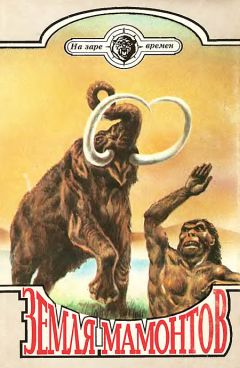Пэт Конрой - Обрученные с Югом
— Мне очень жаль, Шеба.
— Лучше скажи что-нибудь в защиту своего пола.
— Мужчины были бы вполне сносными людьми, если бы Господь не наделил их членом.
Толпа за дверью не расходится, до нас долетает ропот разочарования. Наконец репортеры, ворча, плетутся к своим столам. Слушая Шебу, начавшую весело болтать, я могу спокойно рассмотреть ее. Невозможно отвлечься от сексуальной притягательности, которую она, не задумываясь, несет как мощный заряд. Ее голос, низкий и родной, звучит обольстительно, как в минуты любви. Чтобы свести с ума людей на всех этажах этого здания, ей достаточно было просто войти в него.
Только один человек обратил внимание на то, что вошла Шеба незаконно. Раздается властный стук в дверь кабинета, затем без всяких извинений на пороге возникает Блоссом Лаймстоун, наша дежурная с внешностью гладиатора. Она впускает людей в здание редакции и выпускает их, выполняя обязанности с серьезностью инструктора по строевой подготовке, которым когда-то работала. Проложив грудью путь через редакционную толпу, она решительно входит в мой кабинет и кладет чернокожую мускулистую руку Шебе на плечо. Глядя при этом на меня, Блоссом отчеканивает:
— Ваша милая подружка снова нарушила пропускной режим.
— Блоссом, она не была в редакции три года!
— Она должна расписываться на входе, как все люди.
— Блоссом, душка, твоя рука на моем плече — как приятно. — Шеба берет руку Блоссом и прижимает к своей роскошной груди. — Мне всегда нравилось нежное лесбийское прикосновение. Только лесбиянка знает, как доставить удовольствие женщине. Она сразу переходит к сути, без всяких глупостей и ролевых игр.
— Лесбиянка? — Блоссом отдергивает руку, словно коснулась раскаленных углей. — Да у меня трое сыновей! А ты все ходишь порожняя, как дырявый грузовик. На-ка, распишись вот здесь. И укажи время, когда вошла.
Шеба ставит свою подпись — вся в завитушках, подпись занимает четыре строчки вместо одной, и в этом нарушении правил — свобода и смелость.
— Я вошла, когда тираж грузили в фургон. Мы с братом часто помогали Лео развозить газеты. Я была здесь своим человеком, когда тебя и в помине не было, Блоссом, душка.
— Это я уже слышала. В следующий раз обязательно распишитесь, мисс По. Как все люди делают.
— В прошлый раз тебе крупно повезло, правда? За сколько ты продала мой автограф? За пятьдесят баксов? Или за шестьдесят?
Блоссом, пораженная тем, что ее разоблачили, молчит, потом признается:
— Все равно украли бы. Так уж лучше я продам.
Толпа у кабинета снова собралась — люди с интересом наблюдают за поединком двух женщин с характером. Шеба не замечала публики, пока не оглянулась — и тут уперлась взглядом в сонм возбужденных, любопытных лиц. Я приготовился к худшему, и оно не заставило себя ждать.
— Давай распишусь на твоей левой сиське, Блоссом. Не будем уточнять, сколько ты получишь за этот автограф, — говорит Шеба.
Репортеры громко фыркают. Они рассмеялись бы в голос, но удерживает почтение к Блоссом: она честно отражает натиск сумасшедших, которые осаждают редакцию, если какая-либо публикация вдруг задевает их параноидные души. Видно, что замечание Шебы сильно ранило Блоссом.
— Она не хотела тебя обидеть, Блоссом, — вмешиваюсь я. — Шеба работает на публику. Она не может иначе. Она актриса. А в остальном хорошая девочка.
— Она может быть кем угодно, Лео, — вздыхает Блоссом. — Но только не хорошей девочкой. Она прибежала к тебе, потому что у нее что-то стряслось. Помяни мое слово.
— А теперь прошу всех разойтись. — Я захлопал в ладоши. — Мне нужно сдать материал в воскресный номер, а срок уже на носу.
Мы снова остаемся вдвоем, и Шеба смотрит на меня с выражением, которое у нее означает смущение. Мы смеемся и обнимаемся, как брат с сестрой.
— Я плохо себя вела. Прости, Лео.
— Ничего, я привык.
— Я так веду себя со всеми, честное слово. Ты не один страдаешь, — шепнула она мне на ухо.
— Знаю, Шеба. Со мной ты можешь вести себя как угодно. Я же знаю, какая ты на самом деле, и никогда не забуду. Почему ты приехала?
— Почему? Разве ты не понимаешь, что моей карьере конец? Моя песенка спета. Меня использовали и бросили, как старый коврик. За целый год ни одного приглашения на главную роль. Телефон моего агента молчит. Мне тридцать восемь лет, Лео. По голливудским меркам — все равно что тысяча.
— Все это, может, и правда. Но ты ведь приехала не поэтому.
— Приехала повидать старых друзей. Мне нужно время от времени возвращаться к корням, Лео. Уж ты-то мог бы понимать это.
— После окончания школы старые друзья видели тебя раз десять, не больше.
— Но я же звоню! Ты не станешь отрицать, что я регулярно даю о себе знать по телефону.
— Ты звонишь, когда пьяная, Шеба. — Я прикрываю глаза рукой. — В стельку пьяная. Ты помнишь хоть, что, позвонив в последний раз, ты предлагала мне жениться на тебе?
— И что ты ответил?
— Что побегу разведусь со Старлой и сразу женюсь на тебе.
— У вас со Старлой ненастоящий брак. И всегда был ненастоящий.
— Есть документы, могу доказать.
— У вас была фиктивная любовь. Это хуже, чем фиктивный брак, — говорит она жестко, резко. — И теперь ты живешь фиктивной жизнью.
— Хватит валять дурака, Шеба. Можно подумать, ты приехала, чтобы наладить мою личную жизнь. Знаешь, до твоего приезда я чувствовал себя чарлстонской знаменитостью.
— Никто из моих друзей в Голливуде даже не слышал о тебе.
— Это те самые друзья, которые не звонят твоему агенту?
— Те самые.
— Тебя дважды номинировали на приз Академии как лучшую актрису. Ты получила «Оскар» за лучшую роль второго плана. Это блестящая карьера.
— Но как лучшей актрисе мне ничего не дали. А номинация — это пшик. Все равно как спать со стажером или осветителем, а не с режиссером.
— Ну, с режиссерами у тебя все в порядке.
— Замужем была за четырьмя, — улыбается она. — А спала со всеми.
— Можно будет это процитировать? — Я тянусь к печатной машинке.
— Конечно нет.
— Хорошо, Шеба. Я прошу от тебя немногого. Поделись со мной свежими сплетнями и новыми слухами, чтобы я мог разделаться с воскресной колонкой, а потом мы свалим отсюда и напьемся с друзьями.
— Ха! Ты меня используешь. Эксплуатируешь мою всемирную славу.
— Меня обижают твои подозрения. — Я опускаю пальцы на клавиши.
— Никто еще не знает о моем разводе с Троем Шпрингером. Это сногсшибательная новость.
— Он был твоим четвертым или пятым мужем? — уточняю я, уже печатая.
— Откуда у тебя такое пристрастие к цифрам?
— Люблю точность. Среди журналистов и репортеров это часто встречается. Почему ты развелась с Троем? Журнал «Пипл» назвал его одним из самых красивых мужчин Голливуда.
— Я купила вибратор. У него более выраженная индивидуальность. И со своими обязанностями он справляется гораздо лучше.
— Дай объяснение, которое можно напечатать в семейной газете.
— Не сошлись характерами, особенно после того, как я застала его в горячей ванне — он трахал какую-то малышку.
— Ты сочла это дурным предзнаменованием?
— Да, в то время я как раз пыталась забеременеть.
— Можешь вспомнить всех своих мужей по именам?
— Я даже в лицо не всех помню.
— Самый ужасный человек, которого ты встречала в Голливуде?
— Карл Седжвик, мой первый муж, — отвечает она без раздумий.
— А самый лучший?
— Карл Седжвик. Вот какой он обманчивый и противоречивый, этот Голливуд.
— Что тебя поддерживает в жизни?
— Вера в то, что в один прекрасный день я получу самую лучшую роль, какой не было ни у одной американской актрисы.
— Что тебе помогает не сойти с ума, пока ты ждешь этой роли?
— Большие члены. Хорошая выпивка. Короче говоря, широкий выбор лекарственных средств.
— В Чарлстоне можно найти ликер.
— Мартини лучше, когда слушаешь, как волны Тихого океана разбиваются внизу о скалы.
— Можно написать о твоих любимых лекарственных средствах?
— Разумеется, нет!
— По чему ты больше всего скучаешь? Я имею в виду Чарлстон.
— Скучаю по школьным друзьям, Лео. Скучаю по девочке, которой была, когда приехала в этот город.
— Отчего?
— Оттого что в то время я еще не успела испортить свою жизнь. Думаю, тогда я была хорошая. А ты как думаешь, Лео?
Я смотрю на нее и вижу ту исчезнувшую девочку, о которой она говорит.
— Я никогда не встречал другой такой девушки, как ты, Шеба. Ни до, ни после.
Когда я смотрю на нее, журналист во мне борется с мальчишкой, который стал первым другом Шебы в этом городе. Журналист — человек хладнокровный, беззаветно преданный своей профессии, ему платят за то, чтобы он наблюдал жизненные драмы, а не участвовал в них. Я всегда держу наготове записную книжку. Моя тема — отчужденность. Когда я наблюдаю, как Шеба открывает свою душевную боль, я оплакиваю не только ту девочку, с которой когда-то познакомился, но и того мальчика, что шел с коробкой вафель через улицу поздравить с новосельем двух хлебнувших лиха близнецов. Став репортером, я потушил в себе тот огонь, который мальчик ценил как проявление человечности. Я могу объективно судить о жизни Шебы, но утратил способность анализировать свою. Шеба продолжала говорить с пугающей откровенностью — раньше я не замечал в ней такого.