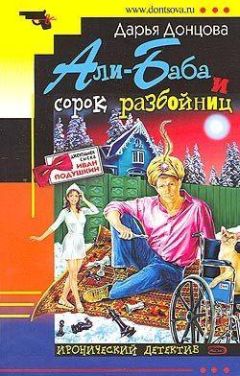Иван Шипнигов - Нефть, метель и другие веселые боги (сборник)
Мне было не до игр и книг. Я рад был бы написать, что мое будущее «терялось в тумане» – нет, оно плавилось в жирной августовской жаре. Работы не было, за комнату я задолжал, друзья были все заняты, деньги кончались, мужское одиночество проделывало со мной странные шутки, на которые я, слабый, склонный к неоднозначным фантазиям, иногда поддавался: московские женщины, особенно в слепящий оранжевый полдень, нередко выглядят со спины или значительно старше, или сильно моложе своих настоящих лет (если у женщины вообще есть какой-то конечный, паспортный возраст), – и я представлял, что будет, если закрутить роман с той аккуратной, тонко сложенной и дорого пахнущей девушкой со старушечьим лицом и вместо этого лица представлять милую кошачью девчачью мордочку вон той рыхлой, складчатой, приземистой бабы. На жаре, в одиночестве можно не заметить, как любовь к парадоксу, каламбуру, карикатуре принимает форму откровенно больничного бреда. Я передергивался от отвращения и поспешно застегивал где-то в мозгу соответствующую ширинку, прищемляя на секунду родившееся обманчивое, ненужное, но все же теплое чувство.
Я слонялся по городу, бесплодно звонил знакомым, испуганно думая, что говорить, если кто-то все же возьмет трубку, по полдня, стоя от уважения, читал в книжных магазинах некоторых современных авторов, несомненно пробуждавших добрые чувства, но лишь определенного, природоохранного толка: жалко было деревьев, пущенных на эту печать. По вечерам я химически расцвечивал свою внутренность, чувственность, потусторонность – сплошь колючие остья суффиксов, выкошенный словарь; три дня подряд, положим, пил водку, которая поступала со мной довольно хитро: усиливала чувства словесности и телесности, но переводила их в обманчиво высший, бесплотный ряд, и хотелось уже не добиваться свиданий или строить крепкий сюжет, а просто писать, желательно женщине, и я легко болтал с приятельницей в скайпе, и маленький оранжевый бегающий карандашик выглядел чертовски женственно и мило. Конечно же, бесплотность наутро оборачивалась бесплодностью.
Или, все-таки встретившись с другом, мы до истерики курили гашиш, и от него у меня не было никаких неприятностей, лишь удивительно глупые и несуразные записи в блокноте, казавшиеся накануне такими глубокомысленными. После гашиша я блаженно тонул в ванне, перечитывая любимых писателей. На водочных же отходняках, довольно тяжелых, с бессонницей, тенями по углам, ритмичными шорохами и повышенным вниманием к балкону, я спасался пирожными, клубникой, арбузами – при виде последних у меня слабеют ноги, как у припозднившейся девственницы от первого, оставляющего красный мокрый след крепкого поцелуя в шею.
Появилась раздражающая игра: ложась пьяным в постель, я бледно, но яростно черкал что-то в блокноте, и наутро долго разглядывал эти иероглифы, татуировки, шифровки, но нельзя было разобрать ни слова – а сколько зародышей повестей там могло быть! Водка – это не престидижитатор-гашиш, она ядовито правдива, с ней так хорошо, чисто, слезливо мечтается. Работы по-прежнему было не найти, и я брезгливо рассматривал свой свеженький синий диплом лучшего вуза в стране. Высшее образование сроднится с алкоголизмом тем, что наличие и того и другого удостоверяется на акцизной гербовой бумаге. Впрочем, напившись, я примирительно чокался с дипломом.
Ежевечерне соединяя письмо и похоть, я познакомился в Интернете с девушкой. Вскоре перешли в почту и через неделю уже гуляли по начавшей остывать Москве. Мы не созванивались перед первой встречей, и, встретив ее тогда у метро, я про себя тихо застонал от удовольствия, таким нежным аккордеоном промурлыкал этот ее первый «привет»: она бархатно картавила, а женская картавость всегда была для меня как чашка крепчайшего кофе для конченого кофемана.
У нее тоже была разница в возрасте с самой собой. На деле ей было около двадцати трех, по паспорту – двадцать семь (какой-то милицейский фетишизм в отношении человеческого документа). Всегда предпочитая общество женщин старше себя, с ней я удовлетворился формальным ответом, хотя по сути гулял со вчерашней девочкой. Ростом она была мне по грудь, с легкомысленными кудряшками недлинных черных волос, с глубокими черными глазами, иронически поджатыми губами, невероятно, ослепительно-белой после этого жаркого лета, нежнейшей сливочной кожей. Во всем ее сложении была кукольная ладность, стройность и крепость. Не миниатюрная, но маленькая, с подчеркнутыми, но невыделяющимися формами. Потом, когда я впервые увидел ее раздетой, я мечтательно заметил про себя, что природа задумала ее идеальным макетом женщины вообще, разных женщин, которые нужны большинству мужчин. Если, строго соблюдая все пропорции, как бы увеличить ее, получится высокая, статная, с крупным крупом, округлыми плечами, длинными ногами ленивая красавица, за которой, однако, все равно останется полное право быть ежедневно носимой на руках. Уменьшить – и будет петит объявлений о поиске маленьких туфель, крошечная рука, мелкие бедра, птичья походка, мурлычущий голос, просьбы достать с верхней полки толстенный словарь. Неповторимость ее и заключалась в этих спрятанных в ней возможностях: совсем немного в ту или в другую сторону – и получится уже типаж, мечта, жена, мука, но, оставаясь в своих изначальных гладких границах, она была уникальна.
Имелась у нее еще одна, самая любимая мной черта: обычно серьезная почти до угрюмости, с неврозом вечно поджатых губ, над моими шутками она хохотала совершенно пасторально, как неграмотная деревенская пастушка, просто вдруг рассыпалась бездумным смехом – жемчуг скачет по камушкам, молоко вот-вот прольется – и после в уголках глаз у нее появлялись зародыши слезинок, свидетели защиты искренности моей подруги. Я обожаю отчаянные игры между формой и содержанием, и, когда я думал о ее работе (она занималась научно-популярной журналистикой) и слышал при этом, как она смеется, у меня скулы сводило от нежности и восхищения.
Вскоре после знакомства она пригласила меня к себе. Было уже довольно поздно. Мы сидели на маленькой кухне. Разговора не получалось, но нам не было неловко. Она устала от очередного рабочего дня, редакционной суеты, нескончаемой новостной ленты; я был утомлен еще одним беспорядочным, ленивым днем, пивом на жаре, нудными мыслями о будущем. Она закрыла глаза, поставила локоть на стол и подперла розовой ладонью сливочную щеку. Я машинально засуетился: надо, конечно, встать и уехать немедленно, «спать, скорей иди спать», но потом ясно понял, что, действительно захотев в постель, она сказала бы прямо. От этого пустячного бытового доверия, почти семейной неряшливости, – конечно, придуманной, но все равно, все равно, – со мной случилось нечто необъяснимое: я стал вдруг словно проживать свои последние годы назад. Я неотрывно смотрел в ее закрытые глаза и видел себя, молодеющего, худеющего, очищающегося, я отматывал пленку к началу, возвращаясь к тому состоянию, когда не знал еще ни водки, ни похоти, ни других внешних влияний, когда простое чувство жизни было высшим наслаждением, и дальше, к самой первой границе, за которой слово «наслаждение» становилось бессмысленным, так как страдания там нет вообще. Я разом вспомнил, сколько я тосковал по ласке, душным ночным объятиям, женской руке, гладящей меня по затылку, ленивым поцелуям от нечего делать, литературному вечеру, где все мне аплодируют – и как грубо, безжалостно я забивал эти мечты водкой, гашишем, огромными дозами сладостей, и как сейчас желание ласки странно обернулось стремлением эту ласку не брать, а дарить – хотя откуда она могла во мне, недолюбленном, взяться. Достаточно было любого легкого камушка, чтобы эта лавина нежности во мне угрожающе сдвинулась. «Ноги устали…» – не открывая глаз, прошептала она. Я вспомнил, в каких туфлях она сегодня ходила: коричневые, впавшие в детство простые лодочки, но тупоносые и с крупным низким каблуком – детский сад, дошкольная группа, сандалики и разбитые колени, – но она взрослая женщина и пишет на работе такое, чего я не пойму, и этого нельзя было вынести, и свело скулы, я положил ее ноги себе на колени, почувствовал, что в моих руках сейчас заключена вся эта нежная сила, и стал ее ноги гладить и мять, и потом еще языком, губами, словно понимая, что чувствует она, и стараясь сделать так, чтобы эти ощущения стали еще сильнее, дошли до предела, довели до обморока, до переливания через край возможного удовольствия. Сначала она настороженно замерла (все еще не открывая глаз), потом откинулась назад и расслабилась, но вскоре странно застонала, напряглась, изогнулась, открыла совершенно мутные, бессмысленные, кошачьи глаза, встала и повела меня в спальню. Я, видимо, перегорел, и ничего не вышло, но я не стал говорить ей пошлости адвокатских формулировок про «защищенный акт». Мы просто заснули вместе.
Я стал наводить в своей жизни порядок. Первым делом разобрал рукописи (так и представляется: ворох потрепанных, многозначительно исчерканных бумаг переносится из ящика на стол, писатель склонил голову, читатель, заглядывая из-за плеча, склонил голову, зеленая лампа склонила голову – будто тоже что-то соображает, глупая). Я устроился на работу. Я больше не пил, не объедал ся, о гашише и думать было смешно (фу, какой плоский каламбур; жена потом вычеркнет, готовя к изданию). Я снова стал писать.