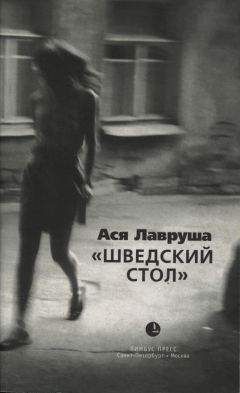Наталия Гинзбург - Семейные беседы: романы, повести, рассказы
– И так уж блестят, как золото. Куда ж их еще мыть-то!
У прислуги – толстой, всегда одетой в черное женщины лет пятидесяти – были еще живы отец и мать, она их называла «энтот старик» и «энта старуха». Вечером, уходя домой, она сворачивала кулечки с сахаром и кофе и прихватывала бутылку вина.
– Отнесу энтой старухе, а? Да вина энтому старику, он его страсть как любит!
Альберто перевели на Север. Это считалось добрым знаком: тех, кого переводили на Север, как правило, скоро освобождали. Мы тоже несколько раз подавали прошение о переводе на Север, хотя в душе вовсе не хотели уезжать из Абруцци; Миранда с Альберто тоже уехали неохотно: новое место ссылки в Канавезе им не нравилось. Наши прошения остались без ответа.
Временами навещал нас и отец. Абруцци он находил крайне грязным местом, напоминавшим ему Индию.
– Как в Индии! – повторял он. – Грязь в Индии – это что-то немыслимое! А в Калькутте что творится! А Бомбей!..
Он рассказывал об Индии с видимым удовольствием. Лицо его при одном упоминании о Калькутте так и светилось.
Когда родилась моя дочь Алессандра, мать осталась с нами надолго. Ей не хотелось уезжать. Было лето сорок третьего. Все надеялись на скорый конец войны. В этот спокойный период мы с Леоне доживали наши последние месяцы. Когда мать наконец собралась уезжать, я решила проводить ее до Л'Акуилы; мы ждали автобус на площади, и вдруг у меня появилось странное чувство, будто мы расстаемся надолго. Я даже почему-то вообразила себе, что больше никогда ее не увижу.
Потом, двадцать пятого июля, Леоне уехал в Рим. Я осталась. Неподалеку от дома был луг, который мать называла «луг мертвой лошади», потому что как-то утром мы нашли там мертвую лошадь. Каждый день, взяв детей, я отправлялась на этот луг. Я скучала по матери и Леоне, и этот луг, где я так часто гуляла с ними вместе, нагонял на меня тоску. Меня все время одолевали страшные предчувствия. По пыльной дороге, на фоне выжженных солнцем холмов, быстро и как-то кособоко семенила Суха Нога в соломенной шляпе, проходили братья Бернард и Вилли в длинных пальто с хлястиком, полученных от того же благотворительного общества; эти пальто они не снимали даже летом, потому что вся их одежда изорвалась. Кроме Леоне все ссыльные сидели на месте, не зная, куда ехать.
Потом было заключено перемирие – краткий миг ликования, – а через два дня вошли немцы. Дорога заполнилась немецкими грузовиками и солдатами. На веранде и на кухне гостиницы теперь тоже сидели солдаты. Городок оцепенел от страха. Я все так же водила детей на «луг мертвой лошади» и, когда пролетали самолеты, велела им прятаться в траве. На дороге при встречах со ссыльными мы молча обменивались взглядами, как бы спрашивая друг друга, куда идти и что делать.
Я получила от матери письмо, полное страха. Она не знала, чем мне помочь. Тогда я впервые в жизни поняла, что больше некому взять меня под крылышко и я должна сама выпутываться. Только теперь я поняла: моя привязанность к матери всегда была сопряжена с уверенностью в том, что она не оставит меня в беде, защитит и поддержит. Отныне же во мне осталась только привязанность, а надежда на защиту испарилась; да, думала я, вот и пришел мой черед опекать и поддерживать мою старую, слабую и беззащитную мать.
Первого ноября я уехала из Абруцци. Леоне с одним человеком передал из Рима письмо, где велел нам уезжать немедленно, потому что в таком маленьком городке немцы нас, конечно, обнаружат и схватят. Все интернированные уже разъехались и попрятались кто куда!
Жители городка помогли мне. Разом сговорились и пришли на помощь. Хозяйка гостиницы, у которой солдаты разместились во всех комнатах и даже у печки на кухне, где мы так часто коротали время, врала немцам, что я ее родственница, эвакуированная из Неаполя, что документы потеряла под бомбежкой и что мне надо попасть в Рим. Немецкие грузовики отправлялись в Рим ежедневно. И вот как-то утром меня посадили в один из них, и все жители пришли, чтобы проститься и расцеловать моих детей, которые росли у них на глазах.
Оказавшись в Риме, я облегченно вздохнула, веря, что все невзгоды позади. Особых причин для такой уверенности не было, но я верила. Мы сняли квартирку в районе площади Болоньи. Леоне выпускал подпольную газету и дома почти не бывал. Через три недели после нашего приезда Леоне арестовали, и больше я его не видела уже никогда.
Я очутилась у матери во Флоренции. В тяжелые времена она всегда начинала мерзнуть и кутаться в шаль. О смерти Леоне мы почти не говорили. Мать очень его любила, но говорить о мертвых избегала, ее постоянной заботой было мыть, причесывать детей и следить, чтобы они не замерзли.
– Помнишь Суху Ногу? А Вилли? – спрашивала она. – Что с ними сталось?
Суха Нога, как я узнала позже, умерла от воспаления легких в каком-то крестьянском доме. Амодай, Бернард и Вилли бежали в Л'Акуилу. Остальных ссыльных поймали, надели на них наручники и увезли на грузовиках по пыльной дороге.
К концу войны мать и отец сильно постарели. Страх и страдания состарили мать как-то внезапно, в один день. Она все время мерзла и куталась в лиловую шаль из ангорской шерсти, купленную у Паризини. От страха и страданий она осунулась, побледнела, щеки впали, под глазами появились большие темные круги. Бремя страданий придавило ее к земле: куда только девалась ее стремительная походка!
Родители вернулись в Турин, в дом на виа Палламальо, переименованную в виа Моргари. Фабрика красок на площади сгорела при бомбежке, как и городские бани. А вот церковь почти не пострадала – высилась, как прежде, только к ней подставили железные подпорки.
– Ну надо же! – говорила мать. – Уж эта-то могла бы и рухнуть! Такое чудовище! Нет – стоит себе!
Дом отремонтировали, привели в порядок. Окна с вылетевшими стеклами забили фанерой, а отец распорядился поставить в комнатах печки, потому что калориферы не работали. Мать сразу же пригласила Терсиллу, и, когда Терсилла снова появилась в нашей гладильной, села за швейную машинку, мать облегченно вздохнула: наконец-то жизнь входит в свое русло. Обивка на креслах потерлась и заплесневела, и мать заменила ее на новую, цветастую. В столовой над диваном снова красовалось лицо тети Регины, с двойным подбородком; круглые светлые глаза снова глядели на нас с портрета, а руки в перчатках сжимали все тот же веер.
– Маленьким по яблочку, а большим по заднице! – говорила мать в конце обеда.
Потом она, правда, забыла эту поговорку, потому что яблок стало хватать на всех.
– Что за безвкусные яблоки! – возмущался отец.
– Ну что ты, Беппино, ведь это же карпандю!
Отец написал Шевремону, что хочет подарить университету свою оставшуюся в Льеже библиотеку в знак благодарности за то, что его приютили в разгул расовой кампании.
С Шевремоном он постоянно переписывался. Тот посылал отцу все свои статьи.
В памяти моей матери города и люди, с которыми она там познакомилась, всегда завязывались в единый узел. Так, во всей Бельгии для нее существовал один Шевремон. Случись в Бельгии что-нибудь вроде наводнения или смены правительства, мать непременно вздохнет:
– Что-то там с Шевремоном?!
Во Франции, до того еще, как там поселился Марио, для нее существовал только некий мсье Поликар, с которым они встречались на конгрессах. Мать то и дело говорила:
– Что-то там с Поликаром?!
В Испании у них был знакомый по фамилии Ди Кастро. И, читая в газете о бурях и наводнениях, разразившихся на Пиренеях, мать сокрушалась:
– Что-то там с Ди Кастро?!
Этот самый Ди Кастро однажды, приехав в Турин, заболел чем-то непонятным. Отец устроил его в клинику и созвал огромный консилиум. Кто-то предположил, что это, скорее всего, сердечное.
У Ди Кастро была высокая температура, он бредил и никого не узнавал. Его жена, приехавшая из Мадрида, твердила:
– Это не corazon! Это cabeza![8]
Выздоровев, Ди Кастро уехал в Испанию, начался франкистский переворот, потом мировая война, и мы больше никогда о нем не слышали. Но стоило в разговоре упомянуть Испанию, мать тут же повторяла слова жены Ди Кастро:
– Это не corazon! Это cabeza!
Война унесла и мсье Поликара. О Грасси, которая жила в Германии, во Фрейбурге, мы также ничего больше не узнали. Мать часто ее вспоминала.
– Что-то сейчас поделывает Грасси? Неужто умерла? – вздыхала она иногда. – Да нет, не может быть, не может Грасси умереть!
После войны вся география для матери перепуталась. Она уже не могла, как прежде, вспоминать Грасси или мсье Поликара. Ведь некогда благодаря этим людям она способна была превратить чужие далекие страны во что-то домашнее, привычное и уютное, поэтому мир в глазах матери становился чем-то вроде предместья или улицы, по которой можно мысленно пробежаться, следуя за знакомыми и родными именами.
Но после войны мир стал огромен, неузнаваем, безграничен. Однако она принялась, как умела, его обживать. И делала это легко и радостно – такой уж у нее был характер. Ее душа не умела стареть, то есть отойти от жизни и оплакивать прошлое, которого не вернешь. Мать смотрела в прошлое без слез и не носила по нему траура. Она вообще никогда траура не носила. Когда мы еще жили в Палермо, она получила из Флоренции известие о смерти своей матери; та умерла совершенно неожиданно, в полном одиночестве. Для матери это был тяжкий удар. Она поехала во Флоренцию и там пошла в магазин купить себе черное платье. Но вместо этого купила красное и в чемодане привезла его в Палермо. Паоле она сказала: