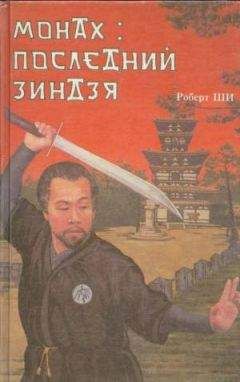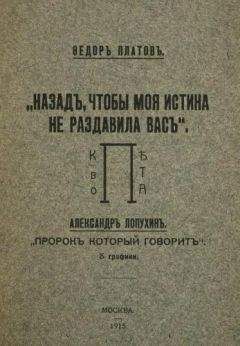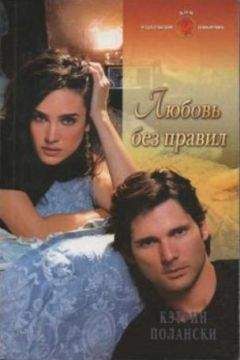Татьяна Дагович - Хохочущие куклы (сборник)
– Ты что, плачешь? Нет, мне показалось. Здесь так холодно, – он обнял ее. – Там теплее.
– Я очень рада, что ты пришел.
– Я никогда не думал об этом, но это было бы так просто, Нора: если бы ты ушла со мной.
– А ты знаешь выход?
Он подумал, как пришел сюда, представил Нору в маршрутке, понял, что сказал глупость, но продолжил:
– Я могу узнать.
– А что я там буду обязана делать?
– Просто жить – больше ничего. Ты будешь жить для меня.
– Значит, то же, что и здесь…
Стали целовать друг друга в губы, рассмеялись, в щеки – она в небритые, он в бесцветные.
– Я люблю тебя.
Красная клубника, следы от сока на коже, следы от поцелуев, высыхающие розовые полосы.
(Смех, смех, смех.)
– У тебя живот холодный. Как жаль, что здесь темно. Мне бы хотелось когда-нибудь разглядеть тебя всю.
– Разве темно? Горят все свечи.
– Гуидо говорил что-то о нормальном свете. Вроде хотят тянуть электричество.
– Ты очень теплый, я…
– Давай.
– А ты свою рубашку сними, и брюки сними тоже.
Она вытянулась телом в длину, вытянула вверх руки, волосы накрыли простыни, его ладонь поползла вдогонку по рубахе. (А дальше – над потолком, под полом – ничего.) Он вытянулся рядом, говоря, что просто полежит рядом с ней, ее так не хватало ему все это время, и сжал в своей руке ее пальцы – длинные, холодные, как лепестки сорванного цветка. Вздрогнула. Целовали губы, щеки, дышали, целовались, смотрели в глаза нежно, опять целовались, улыбались. В одном из помещений заиграла лютня, все ту же мелодию, то медленную, то такую быструю, что сердце не поспевало и просило помощи у другого сердца – но, чтобы другое сердце могло помочь, нужно было прижаться так тесно…
Вошла незнакомая служанка, затушить свечи, ползая по лестницам, одну за другой накрыла колпачком, загасив весь свет, покряхтела и ушла, пока Нора ласкала ртом пенис своего возлюбленного, и в полном мраке стало слышно, как роются крысы, как ползет по стенам осевшая влага. Эхо доносило шаги – в дальних пустых залах, наверху.
Сдавленно рассмеялись, Нора снова легла рядом – лежать вдвоем обнявшись.
Норы совсем не было видно, мороз пробежал по коже, на секунду показалось – ее не существовало, а произошел чистой воды онанизм, он поспешно спросил:
– Я мог бы тебя видеть сейчас? Нельзя сделать светлее?
– Так темно, – продолжала она. – Мани! Эй, кто-нибудь, свет!
Удары тяжелого о пол. Скрип. Хриплый голос, заглушенный стенами:
– Принцесса, уже достаточно поздно.
– Не твое дело. Зажги опять свет.
Через несколько минут вошла сонная, непрерывно вздыхающая Мани, зажгла несколько свечей и села на пол в углу, сделала вид, что спит. Даже захрапела.
– Ну что, Коленька, теперь лучше?
– Намного, я могу тебя видеть. Если тебе пора, ты спи, если хочешь. Я буду рядом с тобой, здесь.
Она задумалась на какое-то время, почти задремала. Когда очнулась, шепнула: «Есть кто-нибудь?» – из-за ощущения постороннего присутствия.
Никто не отозвался. Посмотрела в угол – Мани там не было. Механическая игрушка, мельница, лежала поблизости. Хозяин с Хозяйкой. Она решила, что на этот раз Коленька ей, вероятнее всего, снился. Но разницы не было никакой.
Он же стоял на обочине с обычным ощущением, что все это фальшиво, встреча была фальшивой. Фальшиво все, о чем не знают другие. За спиной колыхался жидкий лесок. Николай ждал, когда появится желтый микроавтобус, чтобы поднять руку, с трудом понимая, почему стоит здесь, за пределами своего города. Почему не сидит за столом у себя дома. И что подумает о нем водитель маршрутки: зачем прилично одетый, даже если и растрепанный человек, находится в этом заброшенном месте? Или это все тот же водитель, который не думает ничего – знает.
Солнце на следующий день было таким ярким, что он не мог думать о Норе, к своей радости, к своему стыду, но о случайной идее забрать Нору вспомнил из-за Миши, который увязался за ним. Они ужинали вместе, в кафе, потому что Миша поссорился со своей и не хотел ужинать дома, чтобы не показывать зависимость от кухни.
– А твоя, – спросил Миша, – что? Что ты всё по кафе?
Николай знал, что в фирме его воспринимают как занятого, а подробностей никто не знает. Видимо, занятым его считают из-за мимолетной Ники, которую притащил на Новый, теперь давно состарившийся, год.
– А мы вместе не живем, – ответил уверенно, и Миша пожал плечами с видом «хозяин – барин, на кафе тратиться». Николаю вдруг захотелось говорить дальше, продолжать историю – почему они не живут вместе и что с трудом представляет свою с кастрюлей – нет, не вспоминать вчерашний вечер, невозможный из-за вечернего весеннего солнца, запускающего лучи, словно веселые пальцы, в желтизну пива, а рассказать что-то достойное ситуации. Например: она много и серьезно работает, поэтому не готовит, она не из таких, простеньких… Кем работает? Какая разница – юристом, экономистом, кем они все работают. И он сразу представил Нору проходящей по улице мимо их столика: каблуки, очки, короткая стрижка.
Хорошая девушка получилась, и маме бы понравилась.
Так как историю Николай не рассказал, рассказывал дальше Миша, о причине своей ссоры, которую не считал ни окончательной, ни последней, потому что «она дура». Но потом разговор резко сменил направление: и они поспорили о тесте Тьюринга, а потом о Захарине, был у них такой, изображающий активную деятельность.
Но чем легче и беззаботнее был разговор в целом, чем вкуснее пиво, доверительней прощание, тем больше Николаю мешало, что он не обо всем может говорить. Говорить о Норе – это как говорить о чем-то незаконном. Возвращался домой один – повеселевший Миша шел мириться, благодаря трем бокалам пива решимости у него прибавилось, а шансов, похоже, убавилось.
Николай уже знал Нору, когда случилась Ника – маленькая попытка вернуться в русло жизни. Он даже рассказывал об этом Норе, которую тогда, поначалу, длинно называл Элеонорой. Каялся – но она не придала значения или не обратила внимания.
Не сложилось с Никой, как вообще не складывалось с женщинами – и раньше, несмотря на то, что женщины его любили.
Любили с детства. Смутно помнил себя, словно со стороны, слишком послушного и аккуратного мальчика с ровненькой коричневой челкой – таким его любили нянечки и воспитательницы в садике и любила первая учительница Антонина Еремеевна. Любил ли его отец, вспомнить сложно – потому что значительная красивая мама с черными бровями и красными губами (это сейчас она оказалась маленькой толстушкой с не по возрасту яркой помадой) была основным существом в квартире – отец был исполнителем ее слов. Помнил кровь из разбитого носа в первом классе – за излишнее прилежание, и как удивлялся своей значимости и тому, что вовсе не больно-то, просто обидно.
Лет с тринадцати, едва он начал замечать девчоночьи маечки, еще не замененные на лифчики, его полюбили одноклассницы: именно с тех пор пошла эта странная слава: якобы он чрезвычайно обаятелен. Что это означает, он не знал. Ему звонили домой. Из-за него дрались девятиклассница с десятиклассницей, ему признавались в любви. Девочки потише просто стреляли глазами из-под челок.
От растерянности он серьезно занялся шахматами, занимался до окончания школы. В одно лето, правда, ему понравилось играть своим «обаянием», которого он так и не почувствовал и не понял. В компаниях он смотрел долгим взглядом на понравившихся девочек, будь они хоть сто раз заняты. Девочки отвечали. Ему нравилось. Так он и начал встречаться с Дашей, первой своей, позже она с родителями переехала, кажется, в Литву, и еще полгода они созванивались, но он уже бросал долгие взгляды на других.
Упоение собственной привлекательностью быстро прошло. Слишком однообразными получались истории, в конце концов ему начало казаться, что унизительны эти горячие перешептывания шестнадцатилетних красавиц, и нужен он им только как общее достояние, повод для сплетен и охов. Однако он осознал, что обаяние – плюс в жизни. Лет с двадцати понял, что обаяние действует и на мужчин – не эротическое, к счастью, – его считали приятным, легким человеком, без осложнений принимали в свой круг и на должности. Обаяние казалось ему отдельной от него, но принадлежащей ему вещью, вроде хорошего пальто, которым можно время от времени воспользоваться.
Почему-то он был уверен, что Нора не замечает его обаяния. Она ведь обычных людей не видела никогда.
И неожиданно – сложилось с Норой.
Электричество Норы
Гуидо занялся преобразованиями. Повсюду распространились одетые в синие робы, грязные люди.
– Выйдет много дешевле, чем свечи, – говорил Гуидо.
Грохот раздавался во всех помещениях, а в редких дырах тишины множился сладкий мат. Рабочие врезались в стены, расколотый камень разлетался крошками, разлетались голубые искры, разлетались капли пота. Нора старалась находиться в тех немногочисленных уголках, где не было рабочих, хотя и осознавала целесообразность электричества. Она боялась их с тех пор, как один попытался шлепнуть ее. Он ужасающе смеялся кривым ртом, и, говорили, потом ушел на больничный с переломом двух костей в кисти руки.