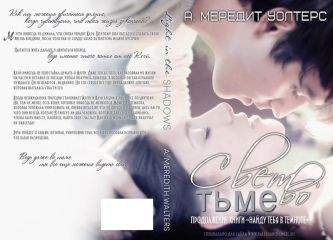Эльвира Барякина - Женщина с большой буквы Ж
Раздался звонок в дверь, и я пошла открывать. На пороге стоял невысокий дядька в расстегнутом пальто и с мешком угля на плече.
– Привет! Меня зовут Пол.
– А я – Мардж, ответственный квартиросъемщик.
Мы пожали друг другу руки. Его глаза выглядели смутно знакомыми.
– Мы раньше встречались? – спросила я.
– Не уверен. Я к вам приставал?
– Вроде нет…
– Тогда это точно был не я.
Мы посмеялись… Внезапно его лицо изменилось. Он смотрел через мое плечо в комнату. Ронский-Понский сидел на кожаном диване и самозабвенно жрал подлокотник. На ковре валялись остатки сладки – драные лоскуты и щепки.
…Пол велел нам выметаться в течение часа. А куда мы пойдем? Ронский-Понский забился под диван и глядел растерянно и покаянно: извините – бес попутал.
Актеры жаждали крови: Ронского – на первое, моей – на десерт.
– Зачем ты взяла эту скотину? – орал Зэк. – Теперь нам залог не отдадут.
Народ шумел и ругался и в конце концов отправил Зэка на переговоры.
– Ты скажи ему, что мы из башки Ронского чучело сделаем, – шумел Хэрри. – Пусть вешает себе на стену.
Пока Зэк отсутствовал, я изобретала Ронскому наказания:
– На выставку тебя отведу! Посажу в клетку рядом с ротвейлером. Знаешь, как он на тебя будет смотреть? С аппетитом! Он подумает, что ты биологическая подкормка. А потом скажу детям, что ты не кусаешься. А потом потащу на соревнования – ты попробуешь сбежать, а фиг: я на тебя медалей навешаю. Все пять фунтов!
Зэк вернулся с условно хорошими новостями:
– Пол взял залог и разрешил нам остаться. Но Ронского велел убрать.
– Да куда ж я его дену? – возмутилась я. – На улицу в мороз выкину?
– Оставь пока тут. Только смотри, чтобы он никому на глаза не попался.
На всякий случай мы отогнали мою машину на другую улицу – типа я уехала вместе с Ронским. Настроение было подавленное, и мы решили немного подлечиться текилой.
После третьего тоста нам стало весело. Девки полезли танцевать на столы, но тут Бьянка навернулась и разбила локоть. Кто-то принес медицинский клей, и все понеслось по новой.
С утра я проснулась от дикого крика. Оказалось, что пузырек с клеем опрокинули на ковер, на котором Шон и Стейси упражнялись в любви. А спина у Шона очень волосатая. И ладно бы к ковру прилипли только волосы. Медицинский клей – серьезная штука: отдирается только с мясом.
– Отвезите меня к врачу! – вопил Шон.
Ковер был большой – метра три на три. Мы закатали в него Шона, в дверь он пролез – ногами вперед, а в машину – никак.
Было решено вырезать из ковра силуэт. Резали вшестером: Стейси – маникюрными ножницами, я – походным топориком, остальные – кухонными ножами. За этим делом нас и застал Пол.
Вообще-то я понимаю его чувства: голый мужик лежит на ковре, вокруг него вооруженные до зубов люди.
– Полиция!!!
Я догнала Пола на улице.
– Стойте! Да стойте вы, господи!
Он поскользнулся на льду, шлепнулся, я побыстрее насела на него, чтобы он не удрал и не натворил еще больших бед.
– Я вам заплачу за ковер!
Пол смотрел на меня дикими глазами.
– Э-э-э… Так вы что, не уехали?
– Уехала. То есть это уехала моя сестра-близнец со своей собакой.
В этот момент из распахнутой двери выскочил Ронский-Понский и помчался меня спасать.
– А это брат-близнец той собаки?
В общем, на нас с Зэком подали в суд.
Преступление и наказание
Когда мне хорошо, я пишу прозу, когда плохо – поэзию. Поэтому почти все мои стихи депрессивны и посвящаются злодеям.
Кто изгрыз мою туфлю?
Я кому сейчас ввалю?
Кто зачем-то вырвал с корнем
Традесканцию мою?
Коврик в ванной, провода,
Почтальонова нога…
Что сожрать не получилось,
Понадкусано слегка.
Скромный вид, невинный взгляд:
«Я ни в чем не виноват!»
Вот отдам тебя корейцам,
И они тебя съедят!
Завтра была война
Пришло письмо от бабушки, Вероники Захаровны, – так трогательно! Старинная открытка, еще времен моего детства, – с палеховской росписью и трехкопеечной маркой в углу.
«Очень по тебе скучаю и жду в гости. Жалко, совсем старой стала: ничего не вижу. А была бы помоложе, так съездила б в твою Америку. Очень мне хочется знать, как ты живешь».
Мне трудно представить бабушку молодой. Как-то не верится, что когда-то она была голопятой девчонкой, влюбчивой девушкой, молодой мамашей…
Между тем все было… Она родилась в деревне. Жили богато: корова, коза, дом о трех комнатах. А потом наступил колхоз. Приехал какой-то, сказался председателем и приказал делиться. Вероника помнила, как все плакали. Корову провожали как в последний путь. И не напрасно: председатель оказался запойным, скотину загубил, кассу растратил, а самого в 1936 году расстреляли.
В деревне ловить было нечего, и Вероника отправилась в Порхов – блестящий райцентр, где имелось и кино, и больница, и даже уличные фонари. В железнодорожный техникум Веронику не приняли из-за химии: она брякнула на экзамене, что водородный показатель – это заплаканные глаза. Вероника уже собралась назад в деревню, но встретившаяся в очереди девица подговорила ее пойти в школу медсестер.
– Там химия не требуется. Стипендия четырнадцать рублей и общежитие!
Сорок человек в комнате, кухни нет, еда всухомятку…
Будущие медсестрички весьма котировались среди танкистов и пехоты, расквартированных в Порхове. Крутить романы было престижней с танкистами:
Не ходи за пехотинца —
Он с войны не возвратится.
А танкист придет домой
Трезвый, целый и живой.
С танкистами ходили в клуб, слушали концерты в фойе кинотеатра и расписывались в комендатуре.
Зима 1940/41 года была самой счастливой в жизни Вероники. Мама отдала ей трофейную шубку, привезенную отцом с варшавского похода: верх панбархатный, низ – белка. На танцы Вероника собиралась как на бал: брови выбрить в ниточку, покрасить урсолом, на губах помада – смесь вазелина с толченым карандашом. На голых ногах, затемненных чаем, нарисовать швы – как на фильдеперсовых чулках.
Витя Антошин – комсомолец и танкист – не смог пройти мимо такой красоты.
К тому времени Вероника уже сделала карьеру: ее перевели из медсестер в клинические лаборанты (делать анализы анализов) и дали ставку в 40 рублей.
Поженившись с Витей, зажили барами – сняли себе комнату на частной квартире. С печкой! С окошком!
– Любила его до слез, – рассказывала Вероника. – Проснусь с утра, смотрю на него, а сердце – тук, тук… Витенька, родненький ты мой!
Было воскресенье. Вышли с утра на улицу, а там репродуктор на столбе надрывается: «От Советского информбюро. Сегодня 22 июня в 4 часа утра гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз»…
– Испугалась? – спросила я.
– Нет. Витя сказал, что скоро все кончится. Мы же знали, что мы непобедимая страна.
Веронику мобилизовали на следующий день. Обрадовалась – служить направили в Витин полк. Санитарок, лаборантов и акушерок срочно переучивали на хирургических медсестер. Потом погрузили всех на автобусы и повезли куда-то в лес под Лугу.
Лагерь разбивали обстоятельно – здесь должен был быть полевой госпиталь. Все ждали наступления.
Витина рота размещалась по соседству. Иногда получалось урвать минутку и встретиться.
– Что штабные-то говорят? Когда наступать будем? – спрашивала Вероника, глядя из-под ладони в небо. Над лесом стаями шли немецкие бомбардировщики – бомбить Ленинград.
Витя понятия не имел, что происходит, и только повторял слова начальника штаба Сергеича: «Это пока военная тайна».
– Ты не боись, у Сергеича прямой провод со Сталиным. Нам сообщат, когда…
Стали прибывать раненые. Операционные работали круглосуточно, но все равно не справлялись с потоком.
От раненых скрывали, что медсестры ни черта не умели. Веронике запомнился мальчик, умерший от аневризмы аорты: никто не знал, как остановить кровь, а доктор был занят на ампутации.
Солдаты целыми днями рыли землянки для раненых и могилы для покойников.
Досидели до октября. Поток раненых внезапно иссяк, и опять потянулись странные путаные дни. Однажды на рассвете кто-то ворвался в землянку: «Немцы!» Вероника вскочила, в чем была, и выбежала… Небо загудело, завыло. И тут разверзся ад.
Лес полыхал, по земле катались горящие люди… Несколько раз Веронику швыряло взрывной волной – об дерево, в чей-то труп, снова об дерево. Бежали черной обезумевшей толпой – по лесу, без дороги. Ноги стерли так, что кровь из сапог выливали. Но все-таки вырвались из окружения.
Вероника металась меж людей: «Антошина никто не видел? Товарищ, постойте, товарищ… Витя…»
Никто не видел, никто ничего не знал.
После разгрома под Лугой остатки 21-й танковой дивизии отправили в Вологду на расформирование. Жили в недостроенном льнозаводе. Продуктовый паек – 200 грамм масла, 200 грамм печенья, 200 грамм сахара, несколько банок консервированной лососины и американской тушенки. Англичане присылали белые шерстяные гольфы, которые госпитальные девчонки перевязывали в шарфы. А еще давали пачку табаку. Свой табак Вероника выменивала на бумагу и все писала, писала запросы по инстанциям: Виктор Михайлович Антошин, пропал без вести в октябре 1941 года…