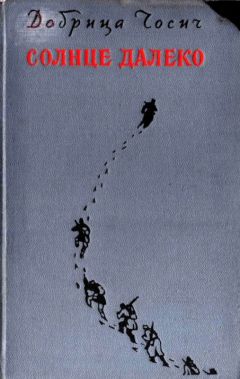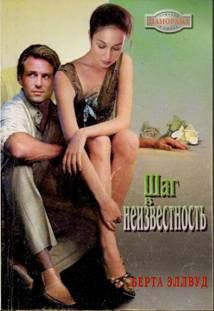Добрица Чосич - Время смерти
Пашич, изогнувшись, облокотился на пустое кожаное кресло.
— Я обдумывал то, о чем мы вчера говорили, — промычал задумчиво, тоже неподвижно глядя перед собой. — Если капитуляция, мы снова оказываемся там, где были перед Первым восстанием[47]. Или драться до конца? — И поднял на него взгляд. — Видишь ли ты, Вукашин, какой-нибудь третий выход?
— Не знаю, господин премьер-министр, добрый ли я вам в эту минуту советчик, — помолчав, пересохшими губами произнес он. И ему стало легче после неожиданной и искренней фразы.
— Видишь ли ты что-нибудь, что можно сбросить с горба народа? Чуть облегчить его. Хрустнет у нас хребет.
— Вы знаете мое мнение. И мнение оппозиции о вашей политике. Трудно сказать, все ли истинно и объективно. Я не знаю. Может быть, сейчас время других истин. — Пашич словно бы усмехнулся? Он заметил у него в глазах желтые искорки.
— Мне, Николе Пашичу, никогда не мешала оппозиция. Неприятности мне доставляли и больше всего причиняли зла мои сторонники и единомышленники…
— Вы, конечно, хотели мне что-то сказать о сегодняшнем заседании парламента? — нахмурившись, изменившимся голосом прервал его Вукашин.
— Заседание Народного парламента переносится. Путник требует, чтобы правительство завтра было в Валеве при Верховном командовании. Армия, говорит он, накануне развала, и нам сообща предстоит решать, что делать. А я судьбу Сербии не хочу решать без оппозиции. Поэтому мы немедленно все вместе выезжаем в Валево. Это я и хотел тебе сказать. Я считаю, Вукашин, крайнее время создать коалиционное правительство. Договориться и объединиться, если уже не поздно.
И он наклонился к нему, коснулся бородой его лица, заполнил ею его взгляд.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Р. А. Рейс[48]. «Как австро-венгры вели войну в Сербии». (R. A. Reiss. Comment les Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie. Observations directes d’un neutre, Paris, Armand Colin, 1915.)
«Уже с давних пор могущественная Австро-Венгрия решила раздавить маленький сербский народ, народ столь демократический и столь свободолюбивый. Независимая Сербия как магнит привлекала к себе симпатии всех австро-венгерских подданных сербского происхождения, а кроме того, эта страна стояла поперек пути к Салоникам, куда так долго и так пламенно стремилась Австро-Венгрия. Народ империи нужно было подготовить к мысли об уничтожении стесняющего соседа. Начало этому положила австро-венгерская пресса, которая при поддержке, германской печати начала кампанию систематической клеветы на сербов. С точки зрения этой прессы, в мире не было больших варваров и более гнусного народа, чем сербский. Низкий по своим инстинктам, грабительский народ цареубийц, эти жуткие сербы оказались воистину кровожадными. Попавшим в плен солдатам они отрезали носы и уши, выкалывали глаза, кастрировали их, — как писали газеты.
Австро-венгерские солдаты, попавшие в Сербию и оказавшиеся среди людей, о которых они всегда слышали как о варварах, были проникнуты чувством постоянного страха и, вероятно, из страха перед воображаемыми зверствами первыми стали совершать действительные. Известно, что вид крови превращает человека в кровожадного зверя. Войска оккупантов охватил приступ подлинного коллективного садизма.
Ответственность за жестокие преступления падает, однако, не на рядовых солдат, ставших жертвами диких инстинктов, которые спят в человеке и которые были выпущены на свободу преступной рукой военного начальства. То, что я описал, равно как и непосредственные свидетельства жестокости австро-венгерских солдат, говорит о сознательной подготовке кровопролития со стороны военного начальства.
Вот невероятный документ, который я точно перевожу с немецкого и который начинается следующим образом:
«К. und К. 9. Korpskommando[49].
Инструкции о мерах по отношению к населению Сербии.
Война ведет нас в страну, населенную людьми, питающими к нам фанатическую ненависть, в страну, где убийство, как показала катастрофа в Сараеве, рассматривается высшими законами государства как дозволенное, законное и даже восхваляемое дело.
По отношению к такому народу совершенно недопустимо мягкое и гуманное поведение, более того, оно даже вредно, ибо всякое мягкосердечие, иногда возможное на войне, здесь подвергает наши войска серьезной опасности.
Исходя из этого, приказываю в течение всего периода военных действий в Сербии проявлять против всего без исключения населения этой страны максимальную суровость, максимальную твердость и максимальное недоверие».
Это было подписано австрийским генералом, представителем правительства, которое, как известно, подготовляло многочисленные казни на основании ложных документов, сфабрикованных его посольством в Белграде[50].
Далее в инструкции говорится:
«Не допускается брать в плен граждан враждебной нам страны, не носящих военную форму, но вооруженных, будь то отдельные личности или группы. Они безусловно должны быть уничтожены».
Австро-венгерскому генеральному штабу, как и всем другим, было известно, что сербские военнослужащие третьей очереди призыва, так же как и добрая половина солдат второй очереди, никогда не получали форменного обмундирования. Распространение подобной инструкции является, следовательно, открытым призывом к убийству этих солдат, призывом, которому военнослужащие оккупантов следовали пунктуально.
«При движении войск через населенные пункты заложники должны быть задержаны насколько возможно дольше до выхода из селения всей колонны, их следует безусловно уничтожать, если по войскам будет произведен хоть один выстрел.
Безусловно запрещается колокольный звон, а в случае надобности колокола могут быть вообще сняты; каждая колокольня должна быть занята караулом.
Богослужение разрешается только под открытым небом перед церковью.
Все время богослужения у церкви должен находиться дежурный взвод в полной боевой готовности.
Любое лицо, встреченное за пределами населенного пункта, особенно в лесу, рассматривается как член банды, который располагает спрятанным оружием; у нас нет времени разыскивать это оружие, поэтому подобных лиц следует уничтожать, сколь бы безобидными они ни выглядели…»
Вот еще один бесспорный призыв к убийству. Любое встреченное в поле лицо безусловно считается членом боевой организации и подлежит уничтожению!
Эти слова я могу квалифицировать только как призыв к расправе с мирным населением…»
2Телефонные переговоры с Пашичем породили в душе воеводы Путника самые тяжкие для командующего сомнения: неуверенность в своей оценке понесенного за последние дни поражения. Страх, как бы не преувеличить размеры этого поражения, он испытывал и до первого разговора с Пашичем, поэтому проверял себя в беседе с генералом Живоином Мишичем, своим помощником, мнением которого дорожил.
— Будь вы, Мишич, Верховным командующим сербской армии, как бы вы оценили ее теперешнее положение?
— Я также считаю наше положение весьма неблагоприятным.
— Всего лишь весьма неблагоприятным?
— Всего лишь. До тех пор пока люди сражаются, я полагаю, невозможно такое неблагоприятное положение, которое нельзя было бы изменить, — ответил Мишич, точно во время экзамена на чин майора, когда Путник был председателем экзаменационной комиссии.
— Вы, Мишич, верите в эту возможность, хотя всего лишь через три месяца после начала боевых действий армия у нас сократилась почти вдвое? И даже эти уполовиненные войска остались без боеприпасов, о чем вы мне докладываете каждое утро. Солдаты босые и раздетые, а приближается зима. Противник же удвоил свою численность и беспрепятственно продвигается на фронтах Первой и Второй армий. И вы, стало быть, оптимист?
— Да, господин воевода. Эту войну выиграет тот, кто может дольше терпеть поражения. А я не знаю, есть ли такой противник, который может равняться с нами в силе терпения.
На том разговор и окончился. Возражать подобным оптимистическим утверждениям Путнику казалось бессмысленным. От сотрудника, который столь упрощенно и ограниченно оценивает нынешнее состояние сербской армии, нечего ожидать дельного совета. Но даже такое суждение Мишича убедило Путника в своей правоте и побудило без оптимизма высказать Пашичу свой взгляд на вещи. Правда, его очень смутило и напугало холодное и упорное неприятие министром-президентом подобной оценки ситуации, в которой находится сербская армия, и ее шансов. И хотя во время последующего разговора Пашич согласился прибыть на другой день вместе с членами кабинета к Верховному командованию, в неодолимой жесткости слов премьер-министра об ужасных потерях чувствовалось превосходство, явно не соответствовавшее положению и функциям, которые этот человек выполнял в государстве. Это превосходство прежде всего подразумевало здоровье, которого у него, Путника, не было и которое ухудшалось с наступлением осенних дождей и холодов; но в превосходстве Пашича ощущалась и сила, позволявшая не поддаваться событиям, сколь бы они ни были тяжелы, сила, которой именно он, Путник, должен обладать более других в Верховном командовании. И не только в Верховном командовании. А может быть, им уже безразлично, что до сих пор он проявлял эту силу, не соглашаясь ни на какие перемены в работе и системе отношений внутри аппарата Верховного командования, перемены, которые напоминали бы о чрезвычайном положении, соответствовавшем положению на фронтах (чего вообще требовал регент Александр, как Верховный командующий, и к чему склонялся генерал Мишич, как его собственный помощник). Стремясь сохранить «обычный порядок» в работе Верховного командования, он старался сохранить и свои будничные привычки. Он позвонил ординарцу, чтобы тот поставил к окну плетеное кресло: воевода любил встречать ночь, созерцая обнаженные липы под дождем и последние падающие листья. Если б облака так не прижались к земле, он поехал бы сегодня вечером на холмы за Валевом полюбоваться на тучки небесные, что более всего приносило ему успокоение и питало его раздумья о вечности и бескрайности мира.