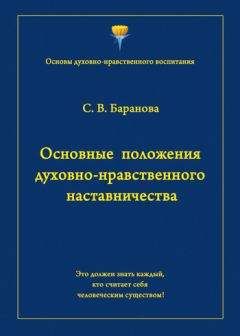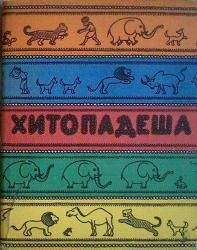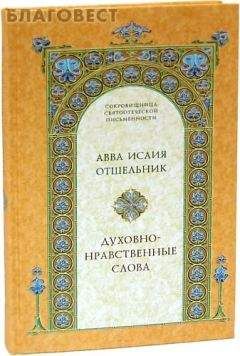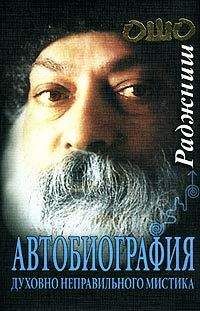Николай Хохлов - Право на совесть
Вечером тринадцатого ноября я бродил по знакомым местам, без какой-либо определенной цели. Почти каждый поворот за угол вызывал в моей памяти страничку прошлого. Я ощущал тоскливое, но спокойное чувство взрослого человека, перелистывающего свой школьный дневник. Возможно, что подсознательно я старался найти точку опоры в своей нехитрой жизни тех лет.
Рядом резко открылась дверь и пятно света, упавшее на тротуар, оборвало мои мысли. Полный человек неопределенной наружности заслонил свет и начал огибать меня, поглощенный борьбой со своими непослушными ногами.
— Звиняюсь! — дыхнул он пивным перегаром и исчез в полумраке.
Я поднял глаза. На деревянном павильоне — слабо освещенная вывеска «Пивной ларек».
Напротив, на другой стороне улицы, за низким забором, громоздились груды серых домов. Темнота, свойственная началу каждого осеннего вечера, уже таяла и на фоне светлеющего неба фабричная труба выглядела мачтой без флага.
Я завернул в кривой переулок и начал спускаться под гору вдоль тротуара полного выбоин. Переулок кончался тупиком. Только дойдя до его середины я понял, какой, заложенный в моей памяти, уголок странички привел меня сюда.
Пять лет тому назад, в течение нескольких часов я бродил вдоль этого тротуара вместе с одним из школьных друзей. Был тоже ноябрь месяц. Я много лет хорошо знал этого человека, и в тот вечер…
Я замедляю шаг, сажусь на основание единственной во всем переулке железной решетки и прислоняюсь к холодным прутьям.
Знал ли я действительно этого своего друга?
Например, в тот вечер, пять лет тому назад, говорил, в основном, я. У меня было столько необычного и интересного рассказать… Партизанские похождения, награждение в Кремле, доскональное знание немецкой армии… Я не мог быть, конечно, до конца откровенным. Но полунамеки на секретную работу, многозначительные пропуски в самый интересный момент, рассказы о «третьем лице», из которых было совершенно ясно о ком идет речь, — все это доставляло искреннее удовольствие моему юношескому самолюбию, упоенному верой в собственную значимость.
А она? Как она отнеслась к моим рассказам? И потом, как прошла ее жизнь за три года войны?
Я ловлю себя на том, что не помню. Да, она говорила мне что-то скромное и незначительное о своей семье, о самой себе. Но я не могу вспомнить деталей. Только общие тихие и уклончивые фразы всплывают в моей памяти.
Как это было характерно для моей психологии тех лет — жить не присматриваясь по-настоящему к окружающим меня людям!
Но, может быть, я неправ, осуждая себя за невнимательность. Может быть ее образ и ее мышление, даже в то время, когда я встретился с первыми уроками войны, все еще не находили себе места в моем, созданном с детства, мире. Может быть, она просто принадлежит к тем людям, которые одним своим существованием нарушили бы стройность моей «философии».
В сущности, что я знаю о ней? Как о человеке — немного.
Семнадцать лет тому назад мы встретились в первый раз. Я поступил в третий класс школы на Молчановке и она была там ученицей. Потом в течение семи лет, на одной из парт, соседних с моей, сидела сероглазая девочка с каштановыми косами. Сначала эти косы были двумя хвостиками с коричневыми бантами на концах. Во время переменок, я, по неписанным мальчишеским законам, дергал ее за эти хвостики, а она по-девчоночьи умело отбивалась. Потом, по мере того как девочка превращалась в девушку, косы становились длиннее и гуще. Я все реже решался пробовать насколько туго они заплетены. Мой мальчишеский задор постепенно сменился тем тайным почтением, которое все ребята тщательно скрывают, но которое все они одинаково чувствуют по отношению к школьным подругам, обгоняющим их в приобщении к клану взрослых.
Может быть даже, по-своему, по-ребячьему, я немного ухаживал за ней. Но между нами никогда не возникло той настоящей откровенности, которая сопровождает истинное чувство. В моем пестром мире «общественных работ», увлечения театром и кино, фанатической веры в справедливость советской власти не находилось тем, одинаково интересных для нас обоих. Я восхищался Маяковским, хотя не помнил ни одного из его стихотворений наизусть от начала до конца. Она морщилась при звуках стихов о красном паспорте и знала, как знают хороших и старых друзей, все самое красивое, написанное Блоком, Есениным, Ахматовой… Для меня Некрасов был автором «Железной дороги» и «Кому на Руси»… для нее — «Поэмы о русских женщинах»… Я считал свою работу честью и почетом. Она никогда не принимала участия в дискуссиях на общих школьных собраниях. Я жил, в первую очередь, школой, киностудией, принадлежностью к «активному школьному меньшинству». Она жила семьей, книгами, никому неизвестной верой во что-то особое.
У нас не могло быть общих интересов. И все же…
Во время войны мама не раз спрашивала меня: «Где же твоя школьная привязанность? Та самая, с косами?» Я горячо убеждал маму, что никаких школьных привязанностей у меня не было, и верил в это сам.
С 1940 года, когда мы вместе с ней кончили школу и даже номера наших «золотых аттестатов» шли один за другим, я почти потерял ее из виду. Мы иногда встречались у общих друзей по школе и обменивались незначительными фразами. Я так до конца и не знаю, что заставило меня в 1944 году разыскать ее и пробродить с ней целый вечер по этому переулку., И почему при воспоминании о том вечере у меня возникает в душе хорошее, теплое чувство какой-то тайной надежды…
Я подымаюсь с камня и вхожу под высокую арку ворот. Короткий каменный туннель, и передо мной открывается фасад трехэтажного кирпичного дома. Справа от двойного подъезда четыре окна на уровне земли. В одном из них свет. Может быть она дома.
Дряхлые деревянные ступеньки лестницы, уходящей вниз. Полутемный, обычный для московского полуподвала, «вестибюль». Земляной пол и пыльная лампочка в проволочной сетке. Четыре двери — четыре квартиры. На одной из них, обитой черной потрескавшейся клеенкой, — фанерный почтовый ящик. Наверху мелом написано «13» и ниже — медная дощечка, с выгравированными старинным стилем буквами «Тимашкевич». Я почему-то улыбаюсь. Может быть из-за странного совпадения. Тринадцатая квартира и сегодня — тринадцатое ноября.
Я стучу железной скобью для висячего замка о петлю. Дверь сразу открывается. На пороге стоит знакомая мне фигура девушки. Чуть улыбнувшись, она спокойно и тепло говорит: «Здравствуй, Коля. Заходи». Поворачивается и идет вглубь квартиры. У меня появляется странное ощущение, что, несмотря на пребывание столько лет в неизвестности, мой приход в этот дом выглядит логичным и естественным.
Я иду вслед за ней по узкому коридору. У вешалки она помогает мне снять пальто, и мы входим в небольшую комнату. В глубине, на тумбочке — настольная лампа с самодельным абажуром из чертежной бумаги. Вдоль стены — диван. Над ним — окно. Девушка садится на диван, ставит локти на овальный стол, упирает подбородок в ладони и показывает глазами в кресло напротив.
— Садись, Коля. Рассказывай.
Я молча опускаюсь в кресло. Все заготовленные слова и привычные фразы вдруг вылетают из головы. Я смотрю на ее серые глаза, длинные темные ресницы, нежный овал чуть удлиненного лица, на короткие волосы, уложенные в простую прическу и, неожиданно для себя, спрашиваю:
— А где же косы?
— О-о, — смеется она. — Кос уже давно нет.
Она повзрослела и осунулась. Глаза кажутся усталыми и в углах рта — две грустные морщинки.
Я все молчу и смотрю на нее.
Из двери в соседнюю комнату, отодвинув коричневую драпировку, выходит маленькая девочка лет десяти со светлыми волосами, заплетенными в две косички и с любопытством косится на меня.
— Яна, — спрашивает она, не сводя с меня глаз. — Можно я пойду гулять?
— Иди, Машенька, — отвечает Яна и поправляет синий бант на одной из косичек. Потом поворачивает девочку за плечи ко мне.
— Это моя сестра. Ты ведь не видел ее никогда?
— Нет… Здравствуй, Маша.
— Здравствуйте… — смущенно шепчет Маша, отворачивает голову в сторону и вылетает из комнаты.
Мы оба смеемся. Я окончательно забываю о разведке, о Западе, о своих неразрешимых проблемах и спрашиваю вдруг о том, что еще совсем недавно не показалось бы мне важным.
— Ты замужем, Яна?
— Нет, — отвечает она и добавляет, как что-то не менее существенное: — Чай будешь пить?
— Да, — решительно говорю я. — Спасибо, выпью.
Яна стучит чайником за перегородкой. Слышен шум воды, бьющей сильной струей в металлическое дно. Откуда-то из-за стены невнятно доносится музыка соседского радио. Я рассматриваю маленькую комнату. Низкий, оклеенный бумагой потолок. Коричневые тисненые маленькими кружками обои на стенах. В углу старинный буфет с мраморной доской, белеющей в полутьме. Надгоревший от лампочки бумажный абажур отбрасывает узкий круг света на стол и отражается в стеклянных дверях небольшого книжного шкафа. Я нагибаюсь к стеклу. Старые тяжелые книги. Черный том Байрона. Желтая серия сочинений Гончарова. Двухтомник Шекспира. Блок, Ахматова. Целая полка Тургенева, Толстого…