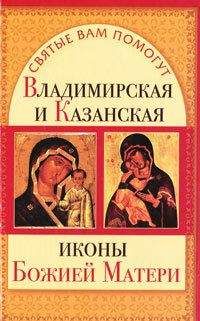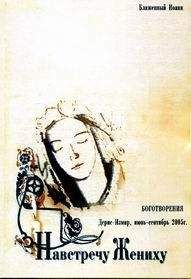Елена Крюкова - Серафим
– Я, матушка, запомни, отныня и навсегды, ни с ково за помощю мою деньгов не брал и не беру. Оне ж стары, старухи. И одне оне. Нетути у их никаво. И што ж, таперя им так и помирать, што ли? А я к им прийду. Вроде как сын. Печурку растоплю. Сараюшку подлатаю. В баньку водицы натаскаю. Это ж, матушка, просто по-человечески, поняла?
– Скумекала уж… – шепчу. Слезы у самой в глазенках слюдою застыли.
Промакиваю глаза-ти полотенцем кухонным, жирным…
А он… а он…
Вдруг навстречу мине посунулся. Руку свою, в занозах всю от досок старых, гнилых, поднял. Ладонь, чую, потом, топорищем древняным пахнет! И ладонью своей, шершавой… грязной… стал мине с рожи – слезы-та стирать… трет и трет… трет и трет…
– Ну, ты не реви, Иулианья, корова… – нежно, едва слышно грит. – Не реви, мать моя!.. Не надоть… Прости миня, это ж я перед тобой – виноват… Наорал на тибя почем зря… А ты вить мать, матушка моя… добра… ты у миня – мать, мать зверей… зверяг наших, тварей Божиих…
Я от тех словес яво – ищо пуще реву!
Вишь ты, мать зверей… Мать – зверяточек, да сподобилася…
И под ребро, как копие, воткнулася мысля остра, жгуча: а вот детишков-та в жизнешке своей – так от мужика какого, хоть от завалящего, от ломтя несъедобного! – а не родила…
И тут в избу, как бы нарошно, услыхавши, што о зверях залопотали, а я – вот он, зверь, входит, хвост трубой, черный наш коток, Филька. И в зубах – мышь держит.
И к нам вразвалочку, как пьянай морячок, подходит; и мышь к ногам нашим кладет. Вот, мол, полюбуйтеся, да и приласкайте!
Батюшка наклонился к коту. Кот об яво руку башкой смоляной торкнулся.
И так отец мой грит:
– Вишь, Иулиания, голубушка, и кот тоже трудицца, мышь ловит! Все – трудяцца на земле. Все трудяцца, пока живы! Молитва – тоже труд. Надо нам молицца за усопших. Коли мы тут молимтися за них – то и они, на небесах, моляцца за нас. Уразумела, мать?
– Уразумела… – языком шуршу.
Филька об колено батюшкино трется. Слезыньки мои высохли. Солнечнай денек за окном избы. Солнце! Божие око! Господи, благодарю Тибя за все!
Кот прыгнул батюшке на колена, а батюшка яво поперек пуза хвать – и мине на коленки, на грязный фартук – хлоп! – пересадил.
– Поет, слышь? – так сказал.
Я стала гладить Фильку, гладить по черной шерстке бархатной, и из-под сухой, уж в морщинах, ладони моей посыпалси сухой да дробный треск.
А отец знай свои шуточки отмачиват:
– В темном, – грит, – чулане ежли так погладишь черного кота – искры увидашь! Золотыя искры! Огонь!
– Батюшка, – грю и склоняю голову перед им, платком кухонным повязанну, – батюшка, ты уж, Христа ради, прости миня… глупу… я на тибя давеча поклеп возвела…
– И я простил, – грит, – и Христос уж давно простил. Сразу, как ты мысленно, внутри сибя покаялася – тут и простил! Ты же знашь, Иулианья: молитва важна не толечко внешня, но наипаче внутрення…
Глядит на миня. А глаза – смеюцца.
Милые, широко стоят подо лбищем-та высоким, сливовы, длинны таки глаза, и огонь играт в них, солнце, солнце играт, – быдто на бережку Волги стою, али Суры, и солнце бегат взад-вперед по хрустальной водице, вспыхиват, золотицца…
– Ну што, мать зверей, – грит, – иди, матушка, к кастрюлям своим, к зверятам своим! Трудись!
И миня – вроде как обожгло это «своим». Кабыдто он тута не живет! Кабыдто я – яму – чужа хожалка!
– Не к своим, – грю так, – а – к нашим!
Голову опустил. Волосья на лоб упали. Ладонью их поправил. Зубами – занозу – ловко – из ладони – выташшил.
– Прости, матушка. К нашим. Конешно, к нашим. Слышь, Стенька воет. Пойду отвяжу яво. Пусть побегат. А ты яму – поисть в миску положи.
И точно, собаконька моя выла за окном, за сараем.
А на окне, оказывацца, пока мы тута базарили да молилися, попугай молча восседал. Яшка, красная рубашка. И чево башку на сторону клонила птица, чево слушала, рази ж птицы в людской речи чево могут понять?
«Яшка», – только губешки мои и выдохнули, а Яшка уж тут как тут: у миня на коленях, и в ладонь миня клюет, значитца, давай, мать, зернышек мне тож в мисочку сыпь. Все живое хочет жрать! И человечек тожа. Так сидим: батюшка, я с краснай птиченькой на руках, кот чернай об ногу все трется, щас дырку на морде протрет, за окном собака подвыват, да в хлеве Крика взмукнула. Семья, дык. Свято Семейство.
Ох, грех так думать, подумала я, Свято Семейство вить одно-едино на земле во все времена, Иосиф-плотник, Богородица да Спаситель, – рукой как двину со спугу – и Яшка спужался, порхнул мне с коленей на плечо, да и в ухо, в мочку как больно клюнет миня!
– Ухо мое тибе не хлеб! – взвопила я и за ухо ухватилась.
А батюшка мой тихо, тяжело так молвил:
- Все мы друг другу хлеб, Иулианья. Все.
НАЧАЛ РАСПИСЫВАТЬ ХРАМ. СЕРАФИМ
В храме пахло известкой, всюду торчали доски возведенных для ремонта лесов, у голых белых стен приткнулись заляпанные краской лестницы. Отслужив Литургию Василия Великого, помолившись с Володей Паршиным в алтаре, я переоблачился, но не вышел вон из храма вместе с Володей. Володя обычно садился на свой велосипед и уезжал по дороге, быстро и бодро крутя длинными худыми ногами, а я шел пешком из Хмелевки в Василь, вдыхая запахи цветов – летом, запахи грибов и перегнившей листвы – осенью, морозный свежий дух – зимой, и ряса моя развевалась по ветру, и чисто и бодро было мне, и все было ясно, прозрачно во мне, как в жестко ограненном кристалле. И я молился так: спасибо Тебе, Господи, что даешь мне чистую, единственную радость служения Тебе.
Володя поглядел на меня круглыми совьими глазами из-под лысого, потно блестящего ската морщинистого черепа:
– Идемте, батюшка?
– Нет, – я помотал головой. – Господь с тобой, – и перекрестил его. – Иди. Езжай. Я останусь. Мне надо.
Володя возражать не стал. Уехал.
Я остался в храме один.
Вышел в центр храма, встал под купол. Голова моя оказалась как раз под зенитом купольного свода. Я поднял голову. Глаза мои ощупали белое, круглое, пустое пространство.
Закрыл глаза…
Полетели фигуры… лучи… вспышки света… лодка поплыла, черная, узкая…
Вспышки усилились. Перед глазами закрутилась цветная воронка. Я хотел схватить руками воздух, чтобы не упасть.
И тут между пальцами… будто скользкая, шелковая ткань… просвистела…
Мазнула… высверкнула – передо мной, слепым…
Запахло ароматно. Я открыл глаза. Дрожал весь.
Губы шептали. Что? Молитву?
Просьбу, да…
Я не помню сейчас этих слов. Помню – да, просил. И гром сердца заглушал слова, что мерцали и рвались ветхой тканью.
Кажется, я стоял в круге света.
И, шатаясь, вышел из него.
Шагнул к стене: там, за ящиками, были уже припасены доска, олифа, палитра, темперные краски, кисточки, разбавитель, тряпки, чтобы кисти вытирать. И маленький планшет – я взял его из школы, выпросил у учительницы рисования. Сказал: на время возьму, отдам.
– Елеуса, Божья Матерь Елеуса, Умиление, – сказал я тихо, и шепот все равно далеко разнесся в пустом храме, – ты мое упование, ты моя…
«Радость», – молча договорил я внутри себя.
Укрепил на деревянных ногах планшет.
Поставил на планшет проолифленную доску.
– Что ты деешь, отец Серафим, – сказал я себе тихо и насмешливо, дрожащим голосом, – ты ж ведь не умеешь рисовать…
«Ты много чего не умеешь», – безмолвно сказал я себе.
А руки сами делали дело. Руки выдавливали краски на палитру. Руки перебирали и разминали сухие кисти. Руки отвинчивали крышку бутылки с олифой, открывали банку с разбавителем. Руки жили отдельной от меня жизнью. Они были смелые и ловкие. А я робел и боялся.
– Отец Максим, ты же благословил меня, вот я и взялся… И не отступлюсь…
Я догадывался, что лицо, фигуру и руки Богоматери надо сначала, прежде красок, нарисовать на доске. А потом уже – по рисунку – красками пройтись.
– Уголь или карандаш нужен, – отчаянно, беспомощно сказал я себе.
А строгий голос внутри меня произнес:
«Угля у тебя нет. Забыл, дурак. Рисуй краской».
Я помочил кисть в разбавителе, ткнул ее в красную краску. В ослепительное пятно сурика на палитре. Щетина сама зачерпнула краски, сколько надо.
И я положил свой первый мазок на свою первую в жизни икону.
Я вычерчивал красной краской чистый лик Небесной Заступницы и все шептал, быстро и бессвязно:
– Господи, помоги… Господи, помоги… Господи… вразуми…