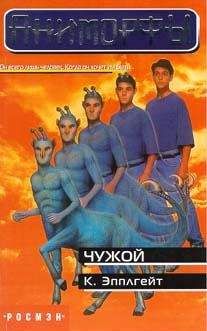Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
— Боря, ты дурак, — убежденно сказал Колян (я не обиделся — обижаться на него невозможно), — зацени великую силу правильного имени и пойми его власть над лохом. Ты думал, бля, почему этому Мавроди бабки несут — ведь как крысы за дудочкой тянутся, смотреть больно! А я скажу. Реклама тут вообще не при чем — все дело в фамилии. Зуб даю — был бы он Кныш или Писулькин — копейки бы не дали. А тут — МАВРОДИ! Чуешь, как звучит? А пахнет — чем? То-то! И мое погоняло рабочее — тоже грамотное. Во-первых, то ли еврейское, то ли армянское, да плюс еще «Тер» — ты прикинь, какой культурный шок у граждан: ага, у армяшки бабла полно — это раз! Жиденок — умный, это два. А то, что с такой фамилией живет и не чешется — это ого-го! Значит, непростой. Понял?
В пустой квартире Сени-Молотка голос раздавался отчетливо, эхо вторило, отражаясь от стен. И я ответил Коляну:
— Да понял я, понял — чего уж тут. Только ты уже не один умный. В окно выгляни — или вон, новости посмотри. Ты как назвался? Евреем, говоришь? С большой буквы и с приставочкой? А какие-то «братья» говорят, что они — дети Бога. Типа, Иисусы. И ведь — верят, Коля! Всему верят. А знаешь, почему? Люди заражены словами. Точней — именами. Имя все равно что бактерия. Есть заразы слабые: прозвучит — и сдохнет, даже не вспомнишь. А есть вроде чумы: услышишь раз — и будешь всю жизнь бредить. Так что твоя заслуга невелика — угадал ты со своим «Тер-Абрамяном» случайно. Попал. А мог и не попасть… Или вот — зачем ходить далеко — сказал один идиот: «грязь целебная» — и пошли люди, как свиньи, в лужу. Мир сдвинулся, Колян! Понимаешь? Ни одно имя уже не означает того, что раньше. Путано? Знаю, что путано. Нет имен, настоящих, которые соответствовали вещам, не осталось. Одни псевдонимы. Погоняла. Кликухи. И, короче, если так дальше пойдет — все запутаются. Ведь даже когда молодой приходит, его первым делам чему учат, Коля? Правильно — мастям нашим, названиям — кто фраер, кто — жиган, и далее, по эстафете. А теперь прикинь картину: жиганом может назваться любой лох. И — все, кранты. Конечно, можно будет со временем понять истинную его, так сказать, сучность. Но за это время сколько лажи случится? Вот так сейчас и происходит. Имена настоящие, реальные уходят со старыми ворами. А приходят — погоняла-заразы. И наступает, брат, целая эпидемия… Но главное даже не в этом…
Я вдохновился — меня несло — очень нравилось разговаривать с Коляном — хотя, почему с Коляном? — и с Киприадисом, и с Аликом, и с Сеней-Молотком, и с толстой теткой из телевизора… Много у меня было собеседников — и никто не возражал и не встревал — слушали, замерев, затаив дыхание, с восторгом. А я — вещал.
— Главное в том, что имя становится сутью. Не понял? Объясню. Вот ты — Тер-Абрамян. Назвал себя Иммануилом. И — кто ты теперь? Ты посмотри на себя — не Коля ты ни разу. Ты теперь и есть Тер-Абрамян. И будешь им — пока не придумаешь другое погоняло. Или назвался ты Аликом. И станешь — Аликом. Не Али, с автоматом и в берцах, который по горам бегает и кричит про Аллаха, а — Алик, ну, тот самый Алик, который сидит на московских харчах, зарабатывает бабло, вылизывает зад русским чиновникам, а потом шлет бабки на свою страдающую родину. А если тебя зовут Юоан Свами, воплощение бога живого — то станешь богом непременно. Прибьют к кресту — и воскреснешь на третий день…
Тут я запнулся — заинтересовался вдруг собственным враньем. А если я — Борис Николаевич Горелов, то что? Украду и сяду? А если — Томас Мор? Не украду — но сяду все равно. И — какой тогда смысл в имени? Никакого…
Я загрустил. Захотелось почему-то выпить. Надел пальто, вышел — до ларька.
Окошко забрано решеткой — теперь все ларьки — все, уважающие себя ларьки, — были с решетками. От поджогов не спасало — зато гарантировало продавцу хоть какую-то видимость безопасности: что ни говори, а дать по голове, просунув руку в крошечное отверстие между железными прутьями, далеко не так просто. Я постучал — в дырку выглянула женщина лет сорока, с усталым лицом. Спросил бутылку «Столичной». Она порылась где-то, протянула молча товар. На всякий случай поинтересовался:
— Она хоть не паленая?
Женщина ответила честно:
— Паленая. Но вы не бойтесь — не отравитесь. Это «Рояль» с водой. От «Столичной» — одно название. Но воду они хорошую добавляют, дистиллированную…
* * *— Ну, братан, огорчаешь! Столько времени на лыжах стоишь — и не нарисовался ни разу!
— Да и правильно, что не заглянул — ты, Боря, не слушай его. Под присмотром хата-то! Тебе тут лучше как-то по-быстрому — и валить в темпе…
…Навалились с порога — сначала Шалый, потом встрял этот мужик — пожилой, вроде незнакомый — хотя, почему меня по имени зовет? Шалый рассказал? А этот уже обернулся к непонятному пассажиру — и затыкал его во всю мощь собственных легких:
— Да ты попутал, кореш! Ты откинулся пару дней как, восемь лет у хозяина парился — ты и не в курсах, что вообще на воле-то делается! Уже забыли все давно про «хаты с присмотром». Слышь, Томка? Он мне про присмотр ментовской втирает! Забудь и забей, Менты у себя в мусарнях сидят, на улицу нос не кажут, даже если стрельба. Почему-почему… Страшно им — вот почему…Короче — не суть. Проходи, Боря, вот не ожидал так не ожидал…
Не зря его прозвали Шалым — ей-богу, не зря. Говорил он чересчур громко, по плечу хлопал слишком сильно, ржал излишне радостно — короче, дурак неспокойный. И баба его, Томка, такая же — во все лезет, встревает, когда не просят, то поет, то плачет, то опять же ржет. Короче, дурдом, не квартира. Но по всему выходило, что ближайший месяц кантоваться придется у Шалого — больше негде. Одинокий отпуск на хате Сени-Молотка закончился. На самом деле — хорошо, что закончился, а то недолго и с ума сойти, со стенами разговаривая.
Здесь, у Шалого — типичная была малина: с хабаром, сваленным как придется, с бабами, постоянными и залетными; с гостями и бухлом. За год я отвык от всего этого. Отвык, но не забыл, а потому и привыкать заново не пришлось — словно в родную деревню вернулся.
Здесь, у Шалого, было чисто; на мой взгляд — мебели много, в каждой комнате — по три комода, да еще какие-то коты глиняные везде. Оказалось — Томка собирает. Валялось несколько журналов; книги у приятелей моих были не в чести — да и когда читать? Сам Шалый был домушником — хорошим, квалифицированным; мог вскрыть любую хату. Пару раз сидел, но по мелочи; группу припаять не смогли, так что отделывался малыми сроками. Из гостей постоянно ошивался Щуплый — маленький, в свой тридцатник все еще похожий на мальчика, щипач. Имя его я так и не вспомнил, кстати, но его по имени никто и не знал; о нем обычно говорили: «Щуплый, который у Шалого». Щуплый был неразговорчив, зато ел много и жадно; пословица «не в коня корм» — про него, точно.
Комнат было две — одна хозяйская, другая — вроде как для приезжих, типа меня. В углу — чемоданы с барахлом: Томка закупалась в Польше и держала точку на Черкизовском. С тамошней крышей Шалый умудрился перетереть по-хорошему: с Томки то ли не брали денег совсем, то ли брали долю малую сиротскую.
В первый же вечер мы с Шалым сели обмыть мои каникулы — до сих пор успешные, и прикинуть планы на ближайшее время. Собственно, мне-то было все равно; не появлялось лихорадочного желания попетлять, как заяц, покрутить, следы заметая, а то и вовсе — метнуться подальше, чтобы не нашли. Не было ни страха, ни злобы, ни азарта — ничего. Пусто. Холодно. Ждал. Только вот объяснять это Шалому не хотел и не мог, да он бы и не понял. Поэтому сидел, прикинувшись валенком, на зеленой табуретке, разливал беленькую, слушал.
— Валить тебе надо, Боря, валить, — Шалый аж глазами сверкал от собственной убежденности. — Я вообще не въезжаю, за каким ты тут сидишь, че ты вообще сразу ноги не сделал из столицы? Документов нет? Так скажи — нарисуем, у меня и человечек хороший есть, сделает чисто, все в елочку будет. Ксиву в зубы — и лети, как птица, в теплые края. К таджикам можно — я тут с одним познакомился, серьезный пассажир, с понятиями, поможет. Или — не хочешь в Таджикию, вали в свой ридный Харькив. Ты пойми, Боря, — он нагнулся ко мне, обдав перегаром, — щас ведь бардак в стране, сумеешь зарыться, года через три выплывешь, тебя и не вспомнит никто…
— Шалый дело говорит, Борь, — встряла Томка, отвлекаясь от плиты. — Бардак — не то слово, неразбериха такая, что… За границу можно уехать — и не заметит никто. Вот у нас последний раз такой случай был…
— Заткнись, женщина, — оборвал ее Шалый. — Вот вечно ей надо свой нос в чужую жопу сунуть без разрешения!
— Сам заткнись, — взвилась Томка, — я в своем доме, между прочим, че хочу, то и делаю. И вообще…
Понеслось, короче. Свара продолжалась минуты три, потом Томка бросила сковороду с недожаренной картошкой, хлопнула дверью и ушла.
Жратву мы с Шалым и без нее довели до ума, достали из холодильника селедку и квашеную капусту, сели ужинать. Шалый даже с набитым ртом бубнил: сваливать, мол, уезжать, документы, паспорт, с собаками не найдут… Я не слушал.