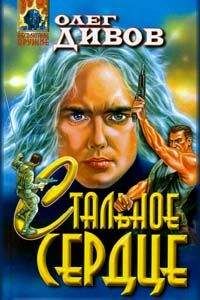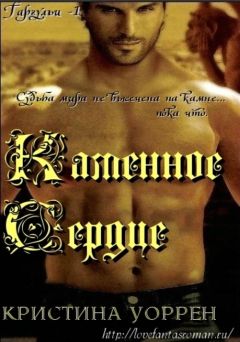Олег Рой - Обещание нежности
Котовская дверь оказалась той самой глухой стеной, в которую теперь безнадежно уперлись все поиски Максима Сорокина. Он больше ничего не мог узнать, ему больше некого и не о чем было спрашивать. Он так никогда и не узнал бы правды, если бы несколько недель спустя ему не попалась на глаза заметка в центральной газете о жестоком пожаре, происшедшем в одном из крупнейших российских дельфинариев, расположенном на побережье Краснодарского края.
В заметке коротко сообщалось, что причиной трагедии, повлекшей за собой гибель большинства животных и многочисленные человеческие жертвы — в основном среди сотрудников исследовательских лабораторий, действующих при дельфинарии, — стал поджог, совершенный в припадке безумия одним из должностных лиц. Сам не понимая, зачем он это делает, ни минуты по-настоящему не веря в то, что все это как-то связано с Андреем, его отец все-таки в тот же вечер сел в поезд, отправлявшийся на юг, и под стук колес во время бессонной ночи слышал одну и ту же фразу, повторявшуюся в мозгу в постоянном и четком ритме, с неизбежностью дождя, стучавшего по крыше вагона: «Они все подохнут, все — и люди, и дельфины… Они все подохнут, все…»
Найдя в городке то, что осталось от дельфинария, Максим долго сидел на пепелище, отчаянно ругая себя за бессмыслицу всей этой поездки и почему-то не имея сил подняться и уйти. Вокруг бродили местные жители, слегка мародерствуя и с удовольствием подбирая на выжженной земле то металлическую посудину непонятного назначения, то провода с уцелевшими разъемами, то еще какую-нибудь мелочь, годную в хозяйстве. «Главврач тут, милый, с ума съехал, — охотно поясняли они всем любопытствующим, готовым слушать их версии случившегося. — Приехал, говорят, однажды (а он не местный был, этот начальник, ба-а-альшой человек, из самой Москвы — и рассказчики закатывали глаза для пущей выразительности), запер людей по комнатушкам и давай бензином поливать! Вспыхнуло, словно спичка!..»
— И никто не выжил? — сердобольно ахали любопытствующие, косясь на странного молчаливого человека, который сидел тут уже битый час и ни о чем никого не спрашивал («Какой там час, с утра сидит!» — со знанием дела делилась своей информацией особенно активная бабулька, сама днями бродившая по пепелищу без устали). — Неужели так-таки и никто?
— Где там! Бомжи вон рядом уже сколько дней бродят, им ничего не делается. А приличные люди все погорели. Мало кто успел выпрыгнуть…
«Зачем я здесь? — с тоской спрашивал себя заброшенный сюда стихийным порывом чувств Максим Сорокин. — Зачем слушаю всю эту ахинею? Зачем жадно впитываю любые новые подробности, ловлю какую-нибудь упомянутую фамилию или имя? Разве все это — для меня, про меня? Разве нас с Наташей и Павликом это касается?…» Но ноги не хотели идти, и сознание томилось и мучилось от ужаса близкой разгадки, которая — вот она, но ее не ухватить, не удержать, не вцепиться, не осмыслить…
Максим Сорокин так никогда и не узнал, что одним из тех грязных бомжей, что бродили по пепелищу, неумело перевязанные старыми бинтами, с молящим, ничего не понимающим взором и каким-то мычанием вместо осмысленной речи, был его старший сын Андрей. А Андрей, трясясь в почтовом вагоне московского поезда и упиваясь давно забытым вкусом шоколадных конфет из посылки, так и не почувствовал, что совсем рядом с ним, через три вагона, так же трясся до столицы его отец, опустивший руки и навсегда закончивший свои поиски.
Часть 4 ЧЕЛОВЕК БЕЗ ИМЕНИ
Глава 15
— Так вы говорите, ничего не помните? Совсем ничего?… — Высокий подполковник потянулся за яркой пачкой, лежащей на краю стола, и, щелчком выбив из нее сигарету, предложил ее собеседнику.
Человек, сидевший напротив него, отрицательно покачал головой и медленно проговорил:
— Ну почему же совсем? Я ведь уже рассказывал вам: дым, крики, сполохи огня… Больше всего мне было жалко дельфинов. Они были заперты в своих вольерах и не могли уйти в море…
Он закусил губу, опустил глаза, пряча мелькнувшую там боль, и отвернулся от настойчивого, ищущего взгляда подполковника. А тот с изумлением отметил про себя, впервые разглядев под личиной грязного бомжа незащищенную юность, почти полное отсутствие жизненного опыта и совсем детские, ясные глаза: «А ведь он еще очень молод. Не больше двадцати, пожалуй. И такая правильная, вполне грамотная речь… Речь человека из хорошей семьи, получившего нормальное образование и достаточно родительской любви в детстве. Так как же такое могло случиться — бродяжничество, потеря памяти, ожоги, увечья?…»
А потом, точно испугавшись, что этот странный бомж вновь ускользнет от него в свою неведомую жизнь, в свою тайну и свое молчание, подполковник заговорил торопливо и сбивчиво:
— Послушай, я очень благодарен тебе… Ты понимаешь, да? За дочь, за Лену. Еще немного — и… Ну, словом, и так все ясно. Скажи, как тебе удается это? Как ты узнал, где она? Ты что, ясновидящий?
Бомж молчал, глядя в пространство куда-то далеко-далеко, сквозь подполковника, и этот милицейский чин, не привыкший, чтобы собеседники обращали на его слова так мало внимания, с досадой и горечью пробормотал:
— Вот черт, я даже и обратиться-то к тебе не знаю как. Неужели ты и имени своего не помнишь?
Бомж вновь отрицательно покачал головой. Боль и чувство утраты накатывали на него широкими волнами, подчиняя себе и увлекая за собой, как когда-то, играя с ним, то поддаваясь, то побеждая его, вновь и вновь влекло за собой море. Он смотрел на высокого, плечистого человека в погонах, ощущал на себе его внимательный, изучающий взгляд, и ему казалось, что он видит на плечах этого военного совсем другие звездочки, а кроме того, еще и небрежно накинутый белый халат. Видит холодные глаза, устремленные на него в упор, и слышит голос, внушающий ему терпеливо и спокойно:
— Ты не помнишь своего имени. Не помнишь, правда же? У тебя нет имени, да оно тебе и ни к чему. Ведь у тебя есть твоя работа, замечательная, интересная работа. У тебя есть друзья, и их много. Они, правда, не могут общаться с тобой на человеческом языке, но ты и без того понимаешь их. Ведь правда же, понимаешь?
И он кивал головой, послушный исполнитель чужой воли, молчаливое орудие в чужих руках, жертва постоянного и умелого гипноза. Он и правда не помнил своего имени, любил свою работу и дорожил друзьями. Но однажды он понял — нет, неверно, не понял и даже не догадался, а скорее почувствовал — то, что он делает, не нравится его дельфинам. Может быть, они как-то дали ему знать об этом, а может, это случилось, пришло к нему как знание само собой, когда после очередного опыта погиб его любимец Антиной, — уж их-то имена он помнил, в отличие от своего собственного… В тот день он впервые отказался передать дельфинам информацию, о которой просил его полковник в белом халате. И после громкого, возмущенного крика человека в погонах, после уговоров и почти непонятных ему угроз вдруг услышал из своей комнаты негромкий разговор за дверью:
— Четырнадцатый номер вырабатывается. Я знал, что его не хватит надолго, но ведь прошло всего два года…
— Прикажете увеличить дозу?
— Нет. Попробуем поменять препараты. Давайте ему последний вариант, тот, который показывал наилучшие результаты.
— Но мы пока использовали его только на животных. Вы не боитесь, Василий Иванович?…
— Нет. Я не боюсь. Мы все равно не планировали работать с четырнадцатым номером долго. Это одноразовый экземпляр.
Волна беспамятства снова нахлынула на него — так же бурно и неожиданно, как это случалось потом изо дня в день, после каждого очередного укола, уносящего его сознание в темную, молчаливую глубину. И ему потребовалось некоторое время, прежде чем он осознал, что новый вопрос задает ему уже совсем другой человек — другой военный.
— Вы хотите работать со мной?
Он помотал головой, отгоняя наваждение. Высокий подполковник, чью дочь он недавно спас, смотрел на него грустно и пристально, и глаза у него были добрые. И все-таки бомж больше не доверял военным — не все ли равно, милицейскую форму они носят или какую другую, есть ли у них белый халат на плечах и какого достоинства у них погоны? Сначала они уговаривают забыть свое имя и предлагают подружиться с лучшими существами на свете — самыми разумными, самыми светлыми. А потом крушат все на своем пути, изрытая невнятные проклятия, поливая пол бензином и бросая горящие спички, от которых ввысь взмывают такие жгущиеся, такие острые языки пламени… Нет, он больше не хочет работать с ними. И потому он тихо сказал, обводя взглядом пустые стены казенного кабинета:
— Я не хочу с вами работать. Я должен отдохнуть. Мне нужно побыть одному.
Подполковник Воронцов согласно кивнул.
— Да, вам действительно нужен отдых. Я подумаю, как вам помочь.
Странный бомж посмотрел на него непонимающими глазами.