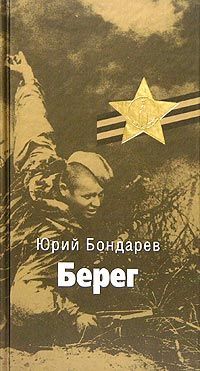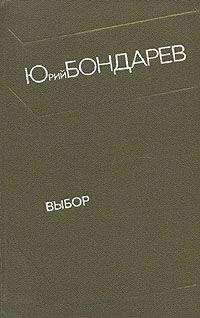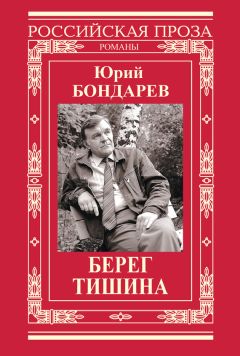Юрий Бондарев - Игра
Как только выехали со студии в раскаленный ад московских улиц и, подолгу задерживаясь, изнывая в вони выхлопных газов на забитых перекрестках, общительный Молочков, поминутно вытирая потеющие на руле руки и деликатно покашливая, попробовал заговорить («Ай, умереть можно: чистая Сахара!»), но Крымов неохотно сказал: «Отдышимся и помолчим, Терентий, если не возражаешь?» — и замолчал, безразличный к асфальтовому пеклу, пылающему зною улиц, к старанию Молочкова быть упредительным, неунывающим, каким и полагалось, наверное, быть финансовому королю картины во всех жизненных обстоятельствах.
«Значит, я еду на дачу? — думал Крымов, настраиваясь на домашний лад. — Да, душ под яблонями, милая моя Таня, постоянный мой праздник, и Ольга с тихими бархатными глазами, которая так умеет молчать, когда недовольна мной… Два моих любимых существа на земле, без которых не было бы жизни… И чересчур серьезный Валентин, загадочный в чем-то, тайно желающий что-то свое, и его невеста Люся, Людмила, с виду простенькая, неразгаданная, но тоже желающая что-то свое. Так что же случилось? Раньше я ехал на дачу с радостью, а сейчас? Там есть мой кабинет в мансарде, книги, тахта под раскрытым окном, покой, тишина, в которой можно думать… Странно, я приехал из-за границы и так толком и не поговорил с Ольгой…»
И снова, едва он начинал думать об Ольге, соскучась по ней, он томительно чувствовал раннюю весну, горную свежесть в воздухе (где-то поблизости были Альпы), праздную толпу, текущую мимо уже жарких витрин магазинчиков, и видел далеко внизу, за каменным парапетом, от которого пахло теплом, апрелем, маленькую, заставленную машинами площадь, всю в нежной зелени платанов, в раскинутой по газонам весенней сети из теней и солнца, — в ту пору первых поездок за границу было ощущение близкой радости, любви, беспечной молодости. Эту уютную площадь он терпеливо искал в последующие приезды в Австрию и не нашел ни в Вене, ни в Зальцбурге. А иногда представлялось ему, что он не мог найти не площадь, согретую апрельским днем, а ту весну, молодость, ту счастливую надежду пятидесятых годов, которая не сбылась… «И все-таки неужели слабой ниточкой прошлого эта площадь связана с Ольгой? Я был за границей один, а она оставалась далеко в Москве… Я скучал, мечтал встретиться с ней на такой вот площади и вместе испытать молодой ветерок беззаботности…»
— Вячеслав Андреевич, дремлете, а? — Сквозь гул мотора, гася весну, зелень платанов на площади, обыденно и поэтому раздражающе прошелестел вкрадчивый голос и повторил: — Не задремали под шумок мотора, а?
— Бодрствую.
— А Евгений Павлович сурьезный человек. Интерес у него к работе есть.
«Опять Терентий с его неизлечимой общительностью и хозяйственной заботой, потерпел бы, родной».
— Ты о Нечуралове? — спросил Крымов, не открывая глаз.
— О нем, Вячеслав Андреевич.
Крымов разомкнул веки, еще отяжеленные забытьем. Машина миновала серые башни на окраине Москвы, неслась по выжженному добела асфальту кольцевой дороги, слева зубчатым забором мелькали ели, меж ними сквозили желтеющие поля, и в загородном водопаде света подрагивал выжидательной улыбкой узкий рот Молочкова.
«Любопытно — лицо у него совсем гладкое, как будто не растет ничего, а шея в крупных морщинах, — заметил Крымов. — Вероятно, крепок здоровьем, несмотря на худобу».
— Положительный он, Евгений Павлович. Не согласны вы?
— Согласен. Ты на дорогу смотри, на меня смотреть не обязательно.
— Не волнуйтесь. Знаю я, кого везу-то, — пропел по-бабьи утешительно Молочков. — Считайте, я вас на фронте везу. Ну, вроде где-нибудь на Днепре. Ежели б я тогда на права сдал, то с вами бы в разведке не был.
— А ты что, вспомнил разведку, Терентий?
— Все я забыл начисто. И помнить не хочу. Вас вот помню только, потому и люблю.
И волнистая ласковость в голосе, и черезкрайняя обходительность, и суетливая проворность его малорослой фигурки, и постоянная неумеренная уважительность, неистребимо проявляемая к Крымову, — все эти особенности Молочкова, не успевшие до дна раскрыться на войне, были с любопытством обнаружены Крымовым при первой же встрече шесть лет назад. Он относил это новое, ставшее неотделимым от Молочкова, к форме самозащиты, очевидно, выработанной раз и навсегда бывшим неудачливым разведчиком Терентием, сильно побитым жизнью и в послевоенные годы.
А встретились они нежданно-негаданно на Калужской площади возле автоматов с газированной водой в воскресный июньский день, весь заметеленный тополиным пухом, и, если бы не пушинка, прилепившаяся к краю стакана Крымова, они не обратили бы внимания друг на друга. «Ой, глянь, как села, прямо в рот летит, стерва», — сказал кто-то, подошедший сбоку, и, перхнув безразличным хохотком, протянул по-обезьяньи цепкую загорелую руку к стакану в соседнем автомате. Крымов взглянул и сначала не поверил: «Не может быть!»
Из взвода полковой разведки дошедших до Германии солдат в живых не осталось никого, он уже неясно помнил их лица, а эту жилистую, цепкую руку запомнил на всю жизнь, она даже снилась ему, судорожно царапающая пороховой снег на скате воронки… Да, это был Молочков, солдат из взвода разведки, когда-то очень худой, похожий на злого подростка, с наглыми желтыми глазами, ядовитый на язык, носивший трофейный ремень с парабеллумом, бьющим, по мнению многоопытных разведчиков, точно, жестко и гулко, и немецкие офицерские сапоги, залихватски собранные в гармошку на его тонких ногах. Но Молочков, узнанный в тот тополиный день по руке, стремительно схватившей стакан, был не тот ловкий любитель прибауток и деревенских частушек и не тот обезумевший парень, раздавленный страхом под огнем пулеметов на нейтралке, растерявший волю за несколько часов, а был помятый человек мелкого роста, в потертом костюмчике, донельзя застиранной рубашке, при галстуке, повязанном неумело; глаза его напряглись играть по-прежнему бойко, но были как обсосанные леденцы, и нездоровая бледность выявляла серую щетинку на щеках. И Крымова удивил его взгляд, собачий, заискивающий, когда в машине спросил, куда поехать выпить ради встречи — домой или в ресторан. Молочков, не решаясь удобно отвалиться на спинку сиденья, ответил, что домой бы лучше, ежели можно, с женой познакомиться, не без робости оглядывал салон машины, чехлы и привешенную Таней к зеркальцу в качестве талисмана какую-то лохматую нелепицу.
Дома у Крымова он скоро захмелел, оживился, держал нож и вилку, отставив мизинец, и, все-таки запинаясь в присутствии сдержанно гостеприимной Ольги, рассказал невеселую послевоенную свою историю. В сорок пятом году вернулся в колхоз под Воронежем, мужиков — полтора человека, одни бабы, поэтому без раздумывания устроился по причине ранений работать кладовщиком, да жизнь пошла на каверзную неудачу, вроде барометр на бурю: жениться не успел, красивые бабы не давали выбрать единственную, поили самогоном, как быка, а потом — перекувырк случился. Кладовую городские воры обокрали и подожгли, а отвечать пришлось ему по суровым послевоенным законам, в сорок девятом году судьи дали на хорошую катушку статью, отчего в холоде и голоде валил лес на северных реках. А срок отбыл, в деревню не вернулся, решил вольным манером заколачивать в Сибири длинный рубль леспромхозной электропилой и топориком. В тайге большую деньгу не ухватил, потому что женился, сил меньше стало, и обратно душу поманила хозяйственная работа — подвернулось хорошее место по снабжению геологической партии на реке Нижняя Тунгуска (там медведи в обнимку под окнами гуляют). Но поисковая организация закончила дело в три года, и судьба бросила его сначала в таежный городок Киренск, затем в Иркутск, где заведовал и овощной базой, и гаражом, и рабочей столовой до случайной болезни почек («Болотной воды на охоте с устатку напился и заразу какую-то подхватил»). Вскоре жена ушла от него, от хворого, не мужа и не работника, а он после болезни, долгого лечения заимел стариковскую мечту перебраться поближе к Москве, в Химки, к родной сестре, которая жила одна, вдовой, и тут хотел устроиться по профессии — по снабжению на вагоностроительный завод, да ничего хорошего, никакого приличного места пока нету. «Всё обещают: заходите, заходите, а денег ни гроша, на сестрину пенсию хлеб жевать совесть не позволяет, хоть плачь, на сухарях живу, но у сестры не обедаю. Куплю в целлофане сухарей, где-нибудь на бульваре погрызу, и вроде по-солдатски сыт!»
И рассказывая, сильно опьяневший, он действительно захлюпал носом, и было Крымову больно, жалко видеть его измятый, затерханный пиджачишко, его растянутые плачем губы и то, как он при этом вилкой тыкал в хлебницу, подцепляя ломоть, как косился на картины на стенах столовой, на вазы, на люстру, видимо считая это за большое богатство, за роскошь, что заслужил бывший командир взвода, теперь известный человек. И Крымов запомнил хмельную пунцовость его щек, сразу ставших от возбуждения меловыми — темнее, колючее выделилась на них будто вмиг отросшая щетинка, когда он, вытерев жилистым кулачком слезы, сказал срывающимся голосом: «Я раб ваш, Вячеслав Андреевич. Служить я буду вам верно. С вами ведь мы одной веревочкой связаны — воевали вместе. Жизнью вам обязан. Возьмите меня на работу к себе. Много вы можете, знаю я».