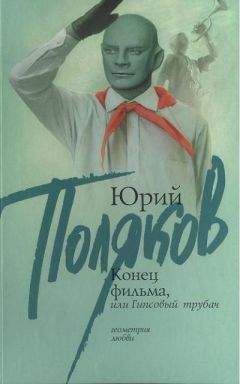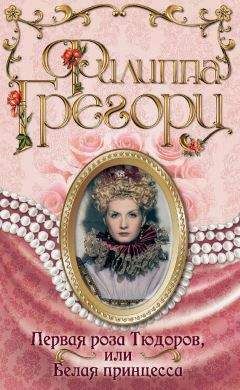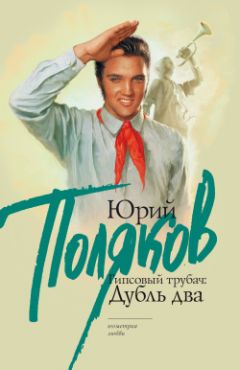Юрий Поляков - Гипсовый трубач
Вырвавшись из цепких рук возбужденных рассказчиков, одноклассники поднялись по ступеням, там, забившись в угол, плакал старый чекист Ящик, а Злата его успокаивала. Андрей Львович хотел подойти утешить, но тут писодея перехватил поэт Бездынько и гневным ямбом доложил:
Прожорливостью изувера
Иль грубым словом — все одно —
Тебя убили, наша Вера,
Звезда советского кино!
Кокотов благосклонно кивнул и получил заверения, что это лишь начало большой обличительной поэмы. Нинка, не знакомая с нравами «Ипокренина», пришла в ужас… У самых дверей номера соавтора поджидал Жарынин. Он отставил бухгалтерш и, скрестив руки на груди, заранее багровел от ярости. Его лицо искажалось тем редким сочетанием иронии, бешенства и презрения, какое бывает у оскорбленного мужа, когда он встречает на пороге свою скромницу-жену, которая вчера отлучилась на часок к подруге за выкройкой и вернулась под утро пьяная, хихикающая, растрепанная.
— Где вы были? — спросил он сурово.
— А в чем дело?
— А в том, что я прочитал ваш синопсис — дерьмо! Зачем мне какие-то лилипуты? Никакого аванса!
— Сами вы дерьмо! — тихо ответил Кокотов.
— Что-о? — взревел игровод, сверкая глазами из-под взбешенных бровей. — А ну повторите!
— Хватит! К черту! — закричала Валюшкина так громко, что Жарынин оробел. — Дайте пройти!
— Вы уволены! — крикнул вдогонку опешивший режиссер.
— Дерьмо! — с наслаждением повторил автор «Знойного прощания».
Войдя в номер, Нинка мрачно осмотрелась, ища признаки женских посещений, не нашла и посветлела.
— Хорошая комната!
— Скоро освободится. Здесь вообще часто комнаты освобождаются.
— Не говори ерунды! Хочешь, я останусь? — спросила она, но почувствовав неуместную двусмысленность, уточнила. — Просто не уеду домой. И все…
— Не надо… Я хочу побыть один.
— Ладно. Держись!
— Держусь.
— Я. Что-нибудь. Придумаю!
— Спасибо. Иди!
Она приблизилась к нему, погладила по голове, осторожно поцеловала в нос и направилась к выходу, но, заметив на люстре обрывок новогодней мишуры, остановилась и подняла руку, чтобы отцепить его от латунной завитушки.
— Оставь! — простонал Кокотов. — Уйди, я прошу!
Едва бывшая староста закрыла за собой дверь, он повалился на кровать и зарыдал, изнемогая от тошнотворного зияния, открывшегося в сердце… Но слезы скоро кончились.
Глава 116
Зилоты добра
Кокотов решил быть мужчиной и держаться до конца. Андрей Львович вынул из кармана упаковку камасутрина и проверил, как в вестернах проверяют барабан шестизарядного кольта: осталось четыре пилюли. Когда позвонит возбужденная Обоярова и скажет, что подъезжает, он примет сразу две таблетки. Вредно? Ха, о здоровье можно теперь не беспокоиться… О! Это будет настоящий предсмертный подвиг, сражение, битва: он бросится на ее горячее лоно, будто на амбразуру. Он пролюбит Обоярову ночь напролет без устали, без передышки, он растерзает ее ласками, исчерпав все ухищрения, выдуманные развратным человечеством. Он испытает все допустимые и невозможные телосплетения, когда-либо рождавшиеся в воспаленном уединении альковов. Он останется глух к ее мольбам о пощаде (ибо женское «хватит» означает «еще!») и доведет бывшую пионерку до счастливого безумия, до самозабвения, до небесных рыданий, чтобы потом, касаясь иных мужчин, она думала лишь о нем, вспоминала лишь его, Кокотова. А утром, не говоря ни слова, не объясняя ничего, нежно попросит ее уйти и никогда не возвращаться… Оставшиеся две пилюли можно подарить Агдамычу. Без этого последнему крестьянину никак не одолеть грандиозную Евгению Ивановну.
Андрею Львовичу стало стыдно за это умственное шалопайство: взрослый человек, прожил жизнь, теперь вот заболел, а в голове вместо скорбного приготовления к неведомому какой-то порносайт. Но как ни странно, от глупых фантазий ему стало полегче. Писодей отхлебнул «Зеленой обезьяны», ощутил во рту благородную чайную оскомину и задумался над тем, что он оставит людям. «Лабиринты страсти», ясно, не в счет. «Гипсовый трубач» — вещь неплохая, но этого мало. Необходимо литературное завещание. Кстати, а кому завещать авторские права? Наталье Павловне? Она, конечно, с радостью согласится, но что-то смущало: уж очень бывшая пионерка занятая дама, слишком много у нее собственности, требующей присмотра. «А пробивная вдова важней таланта!» — мог бы сказать Сен-Жон Перс. В этом смысле Нинка, которая давно завела альбом с кокотовскими вырезками, надежнее. Андрей Львович заколебался, вспомнив про Настю, ждущую ребенка, и отложил решение на потом.
Оставалось что-нибудь напоследок сказать человечеству. Так повелось. Традиция! Писодей открыл свежий файл, назвал его «Слово к потомкам», но, застеснявшись, удалил «к потомкам», оставив только «Слово». Глядя на чистый, белый, чуть подрагивающий экран, он тяжело задумался. Хорошо было писателям при царях, нацарапал «Долой рабство и самодержавие!» — и можешь спокойно смежить орлиные очи — тебя не забудут. Неплохо жилось и при генсеках. Объявил, что коммунизм — бред, а в Кремле — тираны или маразматики, — и ты уже не зря жил на свете, не напрасно марал бумагу. Забабахал, что в ГУЛАГе сгноили полстраны, а вторая половина стучала в КГБ, — и ты навеки в памяти народной. А теперь! О том, что капитализм — дерьмо, знают все, даже богатые. Что власть нагло ворует и прячет бабло за границей, пишут во всех газетах, даже в правительственных. Демократии нет. Вместо империи — «пиария». С избирательными бюллетенями химичат, как с крапленой колодой. Суды торгуют законом. В милицию без взятки не зайдешь и оттуда не выйдешь. Жириновский — ряженый, Зюганов заключил с Кремлем пакт о ненападении. Как быть? Крикнуть перед смертью, что Россия превратилась в криминальную потаскуху, в американскую подстилку и бредет к пропасти? Но это примерно то же самое, как если, выбежав на улицу, заорать: «Граждане, стойте, слушайте: по улицам ходят автобусы!» Ходят. И что дальше? Кто-то, гениальный, совершил тихую, незаметную революцию. Ошибка прежних царств заключалась в том, что они утверждали: наше устройство самое лучшее, а кто не согласен — пройдемте! Писатель не соглашался, его уводили, и он кричал провожающим: «Не могу молчать!» А теперь власть, хлопая честными глазами, говорит: «Да, наш строй — отстой, а режим — дрянь, так уж сложилось. Это потому, что человек по натуре — исключительное дерьмо. Но не будем отчаиваться! Навоз — природное, экологически чистое удобрение, пусть каждый возделывает свой садик, и, может, потом, лет через двести, вырастет что-нибудь приличное!» Что скажешь в ответ? Ничего. В чем упрекнешь? Ни в чем. Как с этим бороться? Никак…