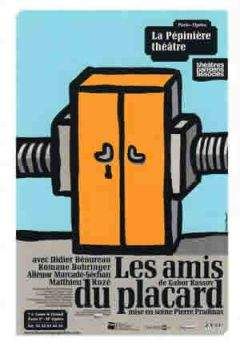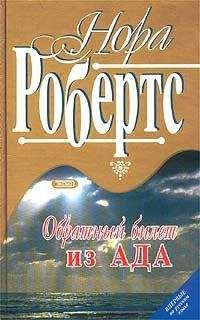Обратный билет - Санто Габор Т.
Ваша, что ли?
Наша, наша.
Знаю, конечно. Она и сейчас стоит.
А ешива?
Это где учились?
Ну да.
Тоже знаю.
Вот туда и поедем.
Возчик все еще в недоумении. Но теперь хотя бы известно, куда двигаться. Он щелкает кнутом, подвода трогается. Кто платит, то и песню заказывает, передергивает Михай Шуба плечами. Ему все равно, куда ехать. Лишь бы приехать куда-нибудь.
Иштван Шемьен наблюдает сцену, стоя за витриной лавки. Он тоже в недоумении. Какого дьявола они хотят? Проехать парадом вдоль всей деревни? Всем утереть нос: вот, мол, мы, прибыли, с полной телегой товара?.. И уж после этого занять то, что им по праву принадлежит? Вроде того гладиатора с картинки из учебника истории: сначала он совершал круг почета вокруг арены в Колизее, а потом возвращался к поверженному противнику, чтобы нанести ему последний удар. Теперь им легко — с русскими-то автоматами за спиной…
А ведь прежде он знал их совсем иными. Парадности, шума они никогда не любили, старались дела свои улаживать в тишине, потому что понимали: не слишком доброжелательно на них смотрят люди… Хотя, кто знает, что они чувствуют после того, что с ними произошло? И что собираются делать…
Теперь вот дальше поехали. Что это значит? На лавку даже не посмотрели, будто их это не интересует… Иштван Шемьен стоит, опершись на прилавок; рубашка на спине, под легким летним пиджаком, промокла от холодного пота. Ноги слабеют, ему приходится сесть. Он наливает стакан воды из кувшина, стоящего на столе. До этого момента, готовясь к решительной схватке, он подавлял в себе нервное напряжение, отгонял сомнения; теперь же вся злоба против непрошеных пришельцев, копившаяся в нем и лишь раздуваемая ожиданием, не имея возможности выплеснуться на них, обращается против него самого. В сердце колет, воздуха не хватает, руки и ноги дрожат; он весь полон ненависти: ведь это они — причина всему, они, потому что объявились, потому что вернулись, потому что вообще существуют.
Подвода сворачивает в переулок. Михай Шуба показывает кнутом на дом, у которого нет окон, выходящих на улицу.
Тут вот молились, а там, в том доме, учились.
Приезжие подходят к ограде, смотрят на молитвенный дом. На крыше его — дверца, выходящая в небо: должно быть, прежним хозяевам это напоминало шатры, в которых этот народ ночевал, путешествуя по пустыне; может, они и свой праздник Кущей встречали на чердаке, закрывая проем камышом. Сейчас дверца распахнута: видно, кто-то открыл ее, чтобы хоть немного проветрить неиспользуемое больше года помещение. То, что было временным, становится постоянным, наверное, думают они сейчас; а может, не думают, просто стоят… Потом возвращаются к подводе: надо ехать.
Теперь куда? — с опаской спрашивает Михай Шуба.
На кладбище, отвечает молодой.
Возчик взмахивает кнутом.
Молодой вопросительно смотрит на старшего. Тот кивает; тогда молодой начинает тихо петь что-то. Слышит его только пожилой; а может, и он не слышит: просто он знает эту мелодию, знает уже добрых шестьдесят лет. Постороннему человеку пение это показалось бы просто жалобным причитанием, протяжным стоном, плачем.
Михай Шуба с зятем сидят на козлах, не оборачиваются. Их не касается, что происходит у них за спиной. Тем более — что говорят приезжие на непонятном языке… Вроде даже не говорят, а поют. О чем они поют, ни Михай Шуба, ни прочие односельчане не знают; правда, они никогда и не спрашивали. Да и какого ответа тут можно ждать? Тут и слов-то, поди, не подберешь…
Пение едва слышится, а иной раз совсем замирает, и лишь движение губ выдает, что молодой приезжий продолжает начатую песню. Или молитву… Пожилой иногда кивает, иногда сам подпевает, а иногда лишь головой качает взад-вперед: то ли соглашается, то ли спорит, не поймешь.
До кладбища ехать недалеко. За околицей, к востоку от села, на неровном участке земли, участок, отгороженный от проселка низкой каменной оградой. С кладбища открывается даль, границу которой определяет лишь линия горизонта. Это лучшая земля в окрестностях села; Михай Шуба никогда не мог понять, почему под погост отвели именно этот участок. Остальные покойники лежат не в этом месте. Тоже чудеса, думает он.
Остановившись перед воротами, они открывают ржавые створки.
Снимайте ящики и несите туда.
Приезжие показывают на каменное строение: там обмывают покойников.
Михай Шуба покорно слезает с козел. Ему уже и спрашивать не хочется ничего: только бы поскорее закончилась странная эта работа. Одиннадцать ящиков сложены на земле.
Заступы есть?
Сказали, так мы захватили.
Тогда копайте могилу. Два метра в длину, один в ширину. И глубиной два метра. Скажем, здесь… Пожилой показывает на поляну перед первым рядом надгробий… От ворот это все же далековато.
Михай Шуба вскидывает голову. И впервые с тех пор, как они отъехали от станции, смотрит в глаза этим чудакам. Что это они задумали? Кого хотят хоронить? Слышал он в детстве, что эти берут кровь христианских младенцев и подмешивают в свою мацу, которую на Пасху едят… Но Пасха давно прошла, младенцев никаких вокруг нет… Да и не похожи они на людей, которые способны чужую кровь пить. Россказни те он не понимал, но ему было страшно. Правда, все знают, что для этих кровь — не пища. Кровь — это для них все равно что душа.
Могилу? — переспрашивает он недоуменно.
Ну да, могилу.
Михай Шуба и зять смотрят друг на друга. Зять по-прежнему молчит; от него вообще слова не дождешься. Зять думает лишь о том, какая это работа — вырыть такую яму. В такую жару! Если бы он мог выбирать, выбрал бы что-нибудь другое…
Взяв с подводы заступы, они идут на поляну.
Тут годится? — спрашивает Михай Шуба севшим голосом. Он вспоминает, что на фронте пленных заставляли вырыть могилу, а потом расстреливали и сбрасывали туда. У этих, правда, оружия нет…
Тут нормально, кивают приезжие.
Михай Шуба с зятем принимаются копать. Жилеты они скинули, но снять рубашки не смеют, хотя солнце шпарит безжалостно. Эти вон — в пиджаках и шляпах; правда, они только ящики открывают.
Пока идет работа, из-за ближних домов на околице выходит группа людей. Это — жители села, человек десять — двенадцать; ведет их голова, Иштван Шемьен. На почтительном расстоянии от ворот они останавливаются. Ага, эти в самом деле на кладбище приехали.
Михай Шуба в яме уже по пояс; приезжие вскрывают последний ящик. Работают они молча, слаженно, словно не впервые этим занимаются. Откуда-то появляются полосатые молитвенные платки. Приезжие расстилают их на выгоревшей, сухой траве рядом с ящиками. В руках молодого, щелкнув, раскрывается складной нож. Михай Шуба, услышав звук, поднимает голову. И видит, как молодой приезжий, присев возле платков, разрезает их на куски.
За низкой каменной оградой стоят с вытянувшимися лицами сельчане.
Словно почувствовав, что на них смотрят, чужаки поднимают глаза.
День добрый, приветствует их Иштван Шемьен.
Те, не ответив, только кивают в ответ; потом, переглянувшись, продолжают свое дело. Подтаскивая к расстеленным платкам ящики, они принимаются вынимать содержимое. Это — прямоугольные куски разноцветного: серого, розового — мыла с четкими буквами: RIF. Сокращение обозначает: Reichstelle für Industrielle Fätte und Wachsmittel [19]. Однако в их мозгах три буквы расшифровываются совсем по-другому: Reines Israelitisches Fett [20].
Работа идет быстро, каждый ящик опорожняется за несколько минут. Сложив мыло из ящика на платок, они поднимают углы и завязывают их. Сейчас и у них лица — красные, со лба льется пот.
У Михая Шубы из ямы показывается только макушка, когда он выкидывает заступом землю. А на траве лежат одиннадцать полосатых узлов.
Все? — спрашивает пожилой, вытирая лоб.
Все. Молодой для уверенности осматривает ящики. Всего тысяча четыреста семнадцать кусков. Я считал.