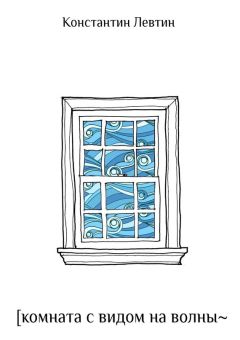Тристания - Куртто Марианна
Берт никогда не хотел уезжать, вот он и не уехал.
Надо быть осторожным в своих желаниях; вот, значит, как оно бывает, когда мечты сбываются, — эти слова повторяются в голове Марты, словно эхо прежней жизни, той, где овцы были невредимыми, а другие существа гибли.
Люди смотрят на меня как на существо, свалившееся с небес.
Они жаждут услышать мою историю, повторяют: ну и мальчик, какой смельчак, видят во мне то, чего на самом деле нет. Может быть, вся жизнь во внешнем мире такова: люди видят в других то, что хотят видеть, а затем поступают, опираясь на увиденное?
Мама стоит у трапа и выглядит постаревшей. Съежившейся. Не знаю, в чем причина — то ли в том, что все вокруг нее такое большое, то ли в том, что, потеряв меня, она пережила череду темных дней. Но сейчас я сделаю последние шаги ей навстречу, день прояснится, и мама обнимет меня так сильно, будто я — единственный мальчик на свете.
Она спросит, здоров ли я, и я кивну, потому что кости мои целы.
Марта смотрит на меня как на незнакомца. Она стоит рядом с Сэмом и видит, что я — чудовище, ребенок и взрослый в одном лице; от такого существа лучше держаться подальше: даже если оно попытается сделать что-то хорошее, оно причинит вред. По-другому оно не умеет.
Существо отвечает на вопросы чужим голосом:
— Нет, мне было не страшно, нет, небо не было черным.
Если бы они видели белизну, которую мы несли на своих плечах, точно зверя с острыми когтями, они не задавали бы таких вопросов.
— Не задавайте таких вопросов, — говорит кто-то: это мужчина, который стоит возле мамы. — Мальчик устал, он проделал долгий путь, — добавляет мужчина, и люди расступаются, и мы проходим мимо них, и они смотрят на меня и видят всё неправильно.
Только в машине мой голос присоединяется обратно к лицу, и только там мама отпускает мою руку.
Как здорово быстро двигаться. Удобно устроиться на сиденье и глядеть на ограду гавани, прямоугольники контейнеров и тянущиеся мостовые краны, затем сам город, дома, рекламные щиты, машины, людей, цветочные клумбы; все гудит и шустро скользит мимо нас.
Пять дней я смотрел на море.
Пять дней спал в качающейся кровати, просыпался и спал, глаза распахивались и снова закрывались. Иногда веки были холодными как лед, а иногда горели, и тогда я кричал.
Никто не приходил.
Сэм спал в своей каюте и смотрел свои сны, а по утрам наши глаза встречались, только чтобы быстро отвернуться в сторону. Я все время чувствовал на себе пристальные взгляды: первого помощника, уборщицы, куриного желтка, когда мы сидели за завтраком и пытались есть.
Мама не знает, что я делал.
Я не знаю, что делала мама, но сейчас она теплая и сидит рядом со мной, хотя все вокруг движется. Я опускаю голову на ее плечо. Гляжу на затылок мужчины, который ведет автомобиль, и внезапно мужчина оборачивается и улыбается мне влажными глазами.
Затем снова смотрит вперед, потому что мы направляемся именно туда.
Сидящий рядом с матерью Джон напоминае теплого лавового зверя.
Или звезду, колючую и горячую: Лиз знает, что Ларс учил сына различать звезды. Помнит вечер, когда отец и сын лежали на траве и показывали пальцами на небо.
Лиз вышла из дома и увидела их, нахмурилась при мысли о грязи на штанах, о мокрой траве, тихо попеняла мужу. Сам замерзнет и сына простудит. Да и пятна с одежды не отстираются.
Но в голосе мальчика звенело счастье, и она не стала им мешать.
Повернулась к ним спиной, ушла в дом и заполнила своей любовью все его комнаты.
Теперь она сидит, обнимая лавового зверя. Он родной и в то же время совсем чужой; он видел такое, чего Лиз не видела.
Она напоминает себе, что ущерб получился не таким уж значительным, что все могло бы быть куда хуже, островитяне могли бы сейчас смотреть с небес на Африку или на корабль, плывущий в Англию без новых пассажиров. Но, к счастью, остальные тристанцы находятся на борту этого корабля, а Лиз с сыном сидят в машине, чувствуют ее движение, слышат рокот мотора и понимают, что всё еще живы.
Лиз не думает о том, кто именно причинил этот ущерб: и так понятно, что это гора обратила островитян в бегство, сбросила их со своих склонов и показала, что таится на дне ущелья.
Лиз смотрит на затылок мужчины, сидящего впереди.
Смотрит на город, который уже не кажется ей таким враждебным, на незнакомых людей, которые уже не причиняют ей боли своим безразличием.
Сын здесь, он в безопасности, у него маленькое горячее сердце. Лиз гладит Джона по волосам и спрашивает:
— Ты спишь?
Машина останавливается перед светофором, и мужчина, который сжимает руль так сильно, что костяшки пальцев белеют, оборачивается и говорит:
— Мальчик спит.
Мужчина улыбается Лиз, и та отвечает на улыбку, чувствуя на щеках жар.
Три недели спустя
Ослепительно яркое солнце давит наголову Марты так сильно, что ей опять приходится закрывать глаза.
Затем она открывает их, осторожно и медленно. Стоит ужасная жара, и другой погоды не предвидится: пульсирующее небо оставалось ярко-синим весь долгий день.
Марта заспалась. Она идет в кухню и размышляет, чего бы поесть: возможно, пока хватит и легкого перекуса. Сэм вернется с работы и приготовит еду. Марта вполне могла бы готовить сама, но стоит ей начать что-то делать, как Сэм забирает у нее нож и говорит: сядь и сиди спокойно.
Сэм говорит больше, чем прежде, как будто те картины, которые он стер из памяти, освободили место для слов, или же тут, в другом месте, брат и сам стал другим.
Во внешнем мире. — Марта распахивает окно.
Зной вдавливается в лицо. Она вспоминает слова врача: старайтесь хорошо питаться, заботьтесь о себе, как бы тяжело ни было на душе.
Неужели она никогда не перестанет скорбеть?
Она знает, что Берт умер, но не знает, как все произошло. Никто не рассказал, а она не спрашивает.
Марта не верит в другие миры, в небеса, где трава зеленая, а луга все время в цвету. Она не представляет себе Берта, излучающего яркий свет. Из глаз Берта исчез весь свет, от него осталась только пустота. Ее нельзя увидеть или потрогать. Она просто ощущается и тем самым причиняет боль, а от боли нельзя отгораживаться, ее надо прожить и дать ей ослабнуть.
Это Марта знает, это она умеет. Отец научил ее.
Боль слабеет.
Краски города уже не колют глаза так же остро, как поначалу.
Под окном проходит молодая женщина, примерно ровесница Марты. Серьги в ушах женщины покачиваются на солнце, каблуки цокают по асфальту, дон-доонн, слышит Марта в голове и жмурится.
Думает о том, как косяк рыб плывет по морю из холода в тепло и от тени к свету. Один косяк в череде тысяч других.
Три недели спустя
Лиз одета в слишком длинное платье из слишком плотной ткани.
Она сидит в парке, чувствует, как пот течет по телу, и представляет его себе в виде молочно-белых капель мороженого, которые стекают по руке сына.
Или в виде воды вдоль берега в те минуты, когда мимо острова проходил корабль и она пыталась прыгнуть.
Ей не дали упасть.
Джон слизывает с вафли последний подтаявший кусок. Вытирает рот ладонью и показывает матери свои липкие руки; Лиз достает из сумки носовой платок. Им с сыном необходимо быть чистыми, незапятнанными, сделаться такими же, как прочие люди в этом парке, и тогда им позволят остаться.
Нельзя сказать, что Лиз всей душой полюбила этот город и не скучает по тем, кого увез корабль, — конечно, она скучает, она тоскует по их жестам, которые были ее жестами, по улыбке, которая осталась на ее губах. Но при этом она не сомневается, что приехала домой.
Джон встает и идет к мусорной урне. Лиз не понимает сына: зачем он спрятался? Зачем покинул мать и полез в пещеру один в такой день, когда любой на его месте руками и ногами вцепился бы в другого человека?