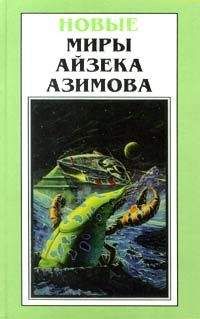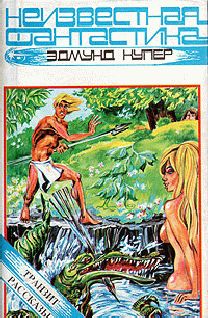Генеральная пауза. Умереть, чтобы жить - Ильина Наталья Леонидовна
— Мек! — раздаётся придавленный писк из-под кучи мокрого картона возле помойки. — Ме-е-е-у!
Он с трудом растаскивает слипшиеся пласты расплющенных коробок и обнаруживает мокрого трясущегося котёнка, который забился в угол между стеной дома и железным боком контейнера. Котёнок топорщит белые усы и смотрит на него круглыми жёлтыми глазами.
— Мек!
— Только кошки нам и не хватало! — сердито ворчит бабушка, когда он приносит котёнка домой.
Котёнок трясётся и «мекает» в морщинистых бабушкиных руках.
— Мы его оставим, правда? — Лёша надеется, что его глаза смотрят так же жалостливо, как круглые котёнкины, и тоже таращится изо всех сил.
— Да уж, под дождь не выставим! — сердито заявляет бабушка и уносит котёнка в кухню.
Он снимает сухие сапожки и улыбается — из кухни доносится ворчливое:
— Бедолага, натерпелась страху-то? Ну ничего, обсохнешь, согреешься, молочка попьёшь, глядишь, и забудутся твои страхи…
Воспоминание подействовало как удар. Аликвис растерянно моргнул и в два шага дошёл до прикрытой двустворчатой двери. Здесь — бабушкина комната, но он помнил её совершенно другой! Нет высокой железной кровати с «шишечками» (сколько раз он попадался на отвинчивании заманчивых блестящих шариков!), нет тумбочки на резных ножках, на которой стоял накрытый салфеткой телевизор «Луч» — маленький неработающий уродец. Нет большого платяного шкафа, где он маленьким прятался иногда среди бабушкиных вещей, пропахших какими-то травами.
Аликвис попятился и не сел — рухнул на широкую тахту. Бабушка умерла, когда ему исполнилось восемь. Сразу после дня рождения внука. Эта комната уже давно стала его комнатой…
Дина застыла на пороге и уважительно посмотрела на большой письменный стол — единственную вещь, которая стояла у окна, сколько он себя помнил.
— Ого! Вот это монстр!
Стол был огромным, дубовым, потемневшим от времени. Ярко-зелёное сукно укрывало стекло. Этот стол — единственное, что пережило здесь блокаду вместе с бабушкой и её младшим братом, умершим от дистрофии. Стол принадлежал их отцу, погибшему на войне.
— Бабуль, а бабуль? — он дёргает бабушку за подол сиреневой юбки.
Она сердито оборачивается — терпеть не может такой фамильярности, по её же словам.
— Алексей, я пять раз повторила — вымой руки! Что за ребёнок?
— Я вымыл, бабуль! — Лёша протягивает вперёд ладошки, ещё влажные.
— Тогда садись за стол!
— Нет, ты расскажи про фамилию, — требует Лёша, карабкаясь на высокий стул.
— Про фамилию…
Бабушка замирает, взгляд у неё становится отрешённым. Это всегда срабатывает, особенно если она сварила гороховый суп, который — «Лёша! Ешь! Не кривляйся!» — он ненавидит.
Можно возить ложкой по тарелке, можно болтать ногами, можно подпереть руками голову, поставив локти на стол — она ничего не заметит. Главное — слушать о том, откуда пошёл славный род Давыдченко…
— Динка! Я вспомнил! Мой прапрадед, Давыдченко Михаил Афанасьевич, был известным хирургом, а прадед — преподавателем в консерватории! Деда я никогда не видел, и бабушка о нём молчала. И даже фамилия у неё так и осталась девичьей. После блокады она не могла иметь детей и маму удочерила, потому что сама в доме малютки работала…
Лёшка вскочил, метнулся к дверям, вернулся к столу зачем-то. Паркет под ногами знакомо поскрипывал.
— Мама! — воскликнул он. — Мама, — повторил неуверенно.
— Погоди, Алекс, не суетись. Пошли в её комнату? — Дина не дала панике разыграться.
— Да!
Он подхватился и выскочил в коридор.
…мама хохочет. Заразительно, как девчонка. Закидывая голову так, что отстёгивается пластмассовая заколка и волосы рассыпаются по плечам. Папа стоит, преклонив одно колено, шапка — набок, в зубах — роза на длинном толстом стебле. Глаза искрятся смехом, но лицо серьёзное. В руке неизвестно откуда (наверняка — с антресоли) выкопанный зелёный пластмассовый меч, которым Лёшка играл, когда ему и пяти ещё не было. Вместо бурки на папиных плечах старая бабушкина шуба из загадочного зверя «мутона». Сама бабушка смотрит на «это безобразие», скрестив на груди сухонькие руки и качая головой. У мамы — день рождения, вот они и дурачатся. Папа маму заново сватает, по горским обычаям…
Он умер через три месяца от инфаркта. «Совсем молодой», — шептали старушки во дворе.
Лёша толкнул мамину дверь. В её комнате не изменилось ничего. Аккуратной стопочкой высились на столе тетради в разноцветных обложках, топорщились ручки в облезлом жестяном ведёрке — привет, песочница в сквере! Пузатый серый монитор древнего компьютера отражал противоположную стену, завешанную фотографиями в одинаковых рамках: мама и папа в экспедициях. Горы и реки, степь и тайга… Геологоразведка — заманчивое, загадочное слово. После папиной смерти мама стала преподавать географию в школе. Большой старинный глобус занимал целую тумбочку у окна, бросая тень на пыльный экран плоского телевизора — самого современного предмета во всём доме. И самого бесполезного.
— Лёшка, ты ещё не одет? Быстро давай! Опоздаем!
Дурацкий галстук-бабочка скользит в пальцах. Он ненавидит его, но куда деваться? Отчётный концерт в Малом зале Филармонии, дресс — провались он! — код.
— Иду, мам, не волнуйся так. Успеем.
Теперь, когда у них есть машина, всё стало значительно проще. Мама, правда, водит так себе, но это лучше, чем шлёпать по лужам до метро и потом снова шлёпать по лужам от него. В машине можно отрешиться ото всего и «поймать волну», настроиться. Публики Алексей не боится. Она ему не мешает, и не волнует, один человек в зале или три сотни. Он всегда один на один с музыкой.
На улице льёт как из ведра. Пригоршня холодных капель срывается с козырька парадной и метко влетает ему за шиворот. Гулко бабахает гром вдалеке. Июль в этом году дождливый.
Автомобильные дворники размазывают воду по стеклу, щёлкая, как метроном. Мама ругается громким шёпотом. Можно подумать, Лёша глуховат — сложно не разобрать пару слов, не подходящих к устам интеллигентной дамы. Учительницы, между прочим! Он посмеивается, отворачиваясь, чтобы не смущать её, и видит, как попутная машина вдруг резко забирает вправо. За секунду, оставшуюся до удара, он успевает понять, что это не попутная, а их машина боком скользит на встречку, мимо проскакивают чьи-то фары, бьющие резким светом в залитое дождём стекло…
Тяжело дыша, он ухватился двумя руками за косяк, слепо глядя в коридор. Там, в его воспоминании, случилось что-то ужасное, но он не сумел вспомнить, что именно.
— Алекс, ты чего? Тебе плохо? — испуганно тормошила его Дина.
— Что с моей мамой? — голос сел, и слова не желали выговариваться.
— О! — Дина отступила на шаг. — Всё хорошо с ней, правда. Она почти не пострадала! Только ты головой об стойку ударился сильно!
Дина осторожно, одну за другой, отцепила его отчаянно мерцающие руки с побелевшими костяшками пальцев от дверного косяка. Он тупо смотрел на свои пальцы, ничего не чувствуя. «Мы разбились».
— Вспомнил аварию?
Алексей кивнул, постепенно приходя в себя.
— Это в июле было…
— Сейчас ноябрь. Пора тебе уже и очнуться.
В это невозможно было поверить, но Дина врать ему не могла. Пошатываясь от груза свалившейся памяти, Алексей сделал шаг и широко распахнул двустворчатую белую дверь на противоположной стороне узкого коридора.
Рояль, самая большая семейная ценность, всегда стоял в гостиной — пятиугольной комнате с эркером, окна которого выходили на Никитский сад, а не во двор, как все остальные. Это был старый инструмент, ещё дореволюционный. По бабушкиным рассказам, её отец давал уроки своим ученикам не только в стенах Консерватории, но и на дому. На самой бабуле, по её же словам, природа отдохнула. Не было у неё ни слуха, ни способностей, но рояль она берегла и очень радовалась, что не зря — именно он разбудил в Лёше музыкальный дар.