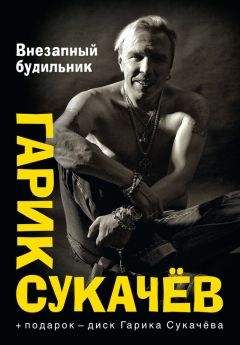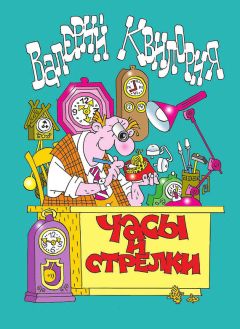Сергей Говорухин - Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)
– Нечего, – бесстрастно отвечала Евгения Николаевна. – Но как же так… – растерянно говорила корреспондентка.
Евгения Николаевна доставала из буфета бутылку вина, стаканы, вазочку с конфетами.
– Давайте лучше выпьем, – предлагала она. – А интервью возьмете у кого-нибудь другого. Я – персонаж довольно скучный и однообразный. Да и популярность моя, скорее, история.
Она откупоривала бутылку.
– Конфеты московские. Я знаю один магазин, где всегда есть московские конфеты…
– Можно, я включу диктофон? – спрашивала корреспондентка.
– Ради бога… Не знаю почему, обожаю московские конфеты. Большую часть жизни прожила в Питере, а конфеты люблю московские. Странно, правда?
– Да нет, почему… – теряясь, отвечала корреспондентка. – Скажите, а ваша дочь…
– Она учится на юридическом. Сейчас все непременно хотят быть юристами… А вы давно в журналистике?
– Три года. После университета.
– Нравится?
– Как когда…
– Как когда – это про меня, верно? Да вы не смущайтесь. Давайте еще по стаканчику…
Она разливала остатки вина.
– Евгения Николаевна, вы замужем? – хмелея, спрашивала корреспондентка.
– Да.
– А ваш муж…
– Мой муж – профессор нашего института.
Потом она провожала корреспондентку до лифта, и та, остановившись в дверном проеме, запинаясь и теребя сумочку, говорила:
– Ой, Евгения Николаевна, вы такая славная! Мне у вас так понравилось. Я, как материал подготовлю, сразу же вам позвоню…
– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо говорила Евгения Николаевна, прикрывая за ней дверь.
Она выходила на балкон, смотрела, как, отчаянно жестикулируя, ловит такси смешная угловатая девочка – корреспондент городской газеты.
За балконом был город, Исаакий, Петропавловская крепость. Город такой же грязный и неухоженный, как и десять, и двадцать лет назад. Такой же величественный и одинаковый. И всегда чужой…
Город, в котором негде преклонить голову. Где нет ни одного человека, кому бы она могла рассказать о своем счастье. Коротком, как раскат грома, и долгом, как дождь, который шел всю последующую жизнь…
Ей впервые захотелось рассказать о своем счастье. Совершенно чужому человеку. Например, этой девочке-корреспондентке. Для этого надо было выключить диктофон и достать из буфета еще одну бутылку вина…
Но, опомнившись, она подумала: зачем? В строгой последовательности ее жизни было невозможно предположить встречу, изменившую ее внешне благополучную судьбу. Встречу, постоянно возвращавшую ее в тот теплый июльский вечер с его удушьем перед надвигающейся грозой, цирком Чинизелли, напротив которого она остановила машину, и привязанному к водосточной трубе, вывалившему огромный розовый язык алабаю…
Он приехал на три дня. Сказал, что в командировку. Она полагала, что они будут встречаться урывками, а он провел с ней все эти дни, был у них дома, обедал, играл с маленькой Катей в дурацкую игру «Пардон, мадам» – они бросали карты и били себя по лбу, картам, рукам, перекрикивая друг друга, кричали: «Пардон, мадам» и «ку-ка-реку», и Катерина была совершенно счастлива.
На второй день они поехали на кладбище в Комарово, долго бродили по аллеям, останавливаясь у каждого надгробия, пили на могиле Ахматовой и вернулись в город поздно вечером.
Он затащил ее в уже закрывавшийся ресторан. Их не хотели пускать, но он договорился, и они сидели в пустом зале под звон убираемой со столов посуды, пили холодное сухое вино и ели сваленные в одну тарелку остатки банкетных блюд.
Когда он рассчитывался с официантом, выпала из бумажника и легла на пол фотография. Она нагнулась, подобрала фотографию и, коротко взглянув на нее, смутившись, вернула ему.
На снятой в ателье фотографии, застыв перед камерой и напряженно прислонившись друг к другу, были запечатлены женщина лет тридцати пяти с безучастными серо-водянистыми глазами и неопределенного возраста девица с таким же отсутствующим взглядом и такими же противоестественно выразительными формами. Их сходство было настолько очевидным, что она невольно отшатнулась.
– Это моя семья. Жена и ее дочь. Акселератка четырнадцати лет… – с глухим раздражением сказал он.
– Мне нет никакого дела до твоей семьи, – неожиданно зло сказала она и, увидев, как он потемнел лицом, накрыв ладонью его руку, раскаянно произнесла: – Прости…
Она задержала его руку чуть больше дозволенного их дружескими отношениями и, потянувшись за сигаретами, словно опомнившись, увидела возвышающегося над столом официанта со счетом в руках. Официант молча наблюдал всю сцену с фотографией. При этом у него было такое томительно-глупое выражение лица, а глаза настолько отрешенно устремлены в пространство, что она не выдержала и рассмеялась.
– Спасибо, – сказал он официанту, что означало: сдачи не нужно.
Официант вежливо поклонился.
В день его отъезда она допоздна пробыла на озвучании и заехала за ним в гостиницу около семи вечера. До отхода поезда оставалось несколько часов, и они катались по городу в поисках места, где можно было посидеть. Притормаживая возле очередного ресторана, она спрашивала:
– Может, здесь?
– Как скажешь… – бесцельно глядя в окно, отвечал он, и они ехали дальше.
Возле цирка Чинизелли он попросил ее остановиться. Она припарковалась у огромной сваренной из металлических прутьев корзины для хранения арбузов. Корзина была выкрашена в темно-зеленый цвет и сама напоминала гигантский арбуз. Сейчас корзина пустовала. – Если бы меня посадили в подобную резервацию, – грустно сказал он, – я был бы самым счастливым человеком на свете. Днем я наблюдал бы течение жизни, а по ночам выл на луну… И никакой сопричастности.
– Мальчишки забросали бы тебя камнями, – отстраненно произнесла она.
– Меня так и так рано или поздно забросают…
Она резко повернулась к нему, собираясь что-то возразить, и тут увидела собаку. Собака сидела у входа в магазин, вывалив шершавый розовый язык и тяжело дыша мощными ребрами. Она была огромная, палевая, с подрезанными ушами и удивительно человечьими глазами на иссеченной шрамами морде. Собака смотрела в их сторону.
– Боже, какая собака! – испуганно и одновременно восторженно произнесла она.
– Это алабай – среднеазиатская овчарка, – объяснил он. – Одна из самых сильных собак в мире.
– А он привязан?
– Привязан. Но если он надумает освободиться, то вырвет эту трубу к чертовой матери! Со всеми ее креплениями…
– Представляю себе эту картину, – улыбнулась она, – алабай с водосточной трубой на Фонтанке… Ты знаешь, я не смогу проводить тебя до поезда, – внезапно раздражаясь, сказала она, – у мамы опять подскочило давление, и еще надо успеть в аптеку…