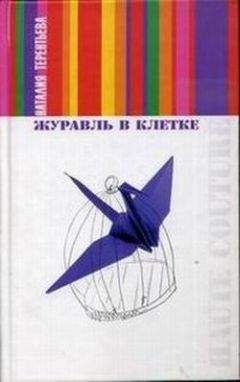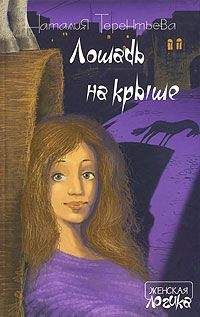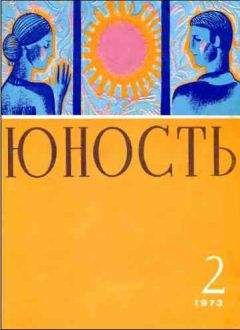Наталия Терентьева - Училка
Но Светлана Ивановна весело посмотрела на меня:
— Есть. Дружба. Мы дружим с сыном. Я его прошу, он садится и читает. Вернее, пробует читать. Мы с одиннадцати до двенадцати в воскресенье читаем. Или с шести до семи вечера. Это ужасно, мучительно, неправильно. Я пытаюсь бороться с природой. Я — сама математик, люблю логику, не очень люблю лирику и всякие мелодрамы, но… — Она махнула рукой.
— У меня дети пока читают, — сказала я. — Один обормот, вторая — девочка. Близнецы. Оба читают. Я им игры неинтересные покупала, они поиграли и разочаровались.
— Специально, что ли? — рассмеялась Светлана Ивановна.
— Да нет. Старалась, наоборот, — развивающие всякие. И книжек много покупаю, разных, интересных. Сейчас много хорошей детской литературы издается, особенно переводной. А Тамарин правда талантливый? — спросила я Светлану Ивановну.
— Тамарин-то? — Она прищурилась. — Что считать талантом. Наглый — да. Самоуверенный. Тройки-пятерки, с одной стороны, — не показатель, Эйнштейн, как известно, был троечником. Но!.. — Она вытерла салфеткой руки с аккуратным неброским маникюром. — Пойдемте? Скоро звонок.
В коридоре я столкнулась с Розой.
— Что там у тебя с Громовской? Какие-то ужасы рассказывают. Почему не позвонила мне?
— Да Никита в больнице, Громовская его вчера сшибла у «Синего цветка», по тротуару ехала…
— Да что ты? — довольно равнодушно проговорила Роза. — И что с ним? Серьезное что-то или так…
Я чуть помолчала, глядя на Розу.
Я хорошо помнила, как восхищалась ею Настька, не догадываясь, что я когда-то знала Розу бледной, плоскогрудой, худой девочкой, довольно неуверенной и зажатой. (Или так мне казалось в десять лет?) Настька с Никитосом, как положено, бывали на общешкольных «линейках», которые вела Роза. Да и я ее видела три раза на линейках Первого сентября! Только я не могла себе представить, что это та Роза — из моего пионерского детства! Кто-то ведь не меняется совсем, просто становится толще и выглядит устало. Раздобревшая усталая девушка, легко узнать, хотя и прошло двадцать пять лет. Кто-то даже и не толстеет, как Лариска, — худенькая, слегка подуставшая девушка, симпатичная и живая, только появился круглый выпяченный животик — никуда не денешься, после сорока пяти лет мускульные клетки заменяются жировыми, такая интересная программа жизни. Бабушкам мускулы не нужны, бабушкам нужно, чтобы потеплее… Так, что ли? Миллионолетняя эволюция или некая программа, совершенная с точки зрения иного — не нашего — разума? Не хочу я, чтобы с прекращением цикла воспроизводства я начала рассыпаться, мои кости стали хрупкими, зубы — шаткими, мозг — больным. Я — не хочу! Но что я могу поделать с программой, заложенной в меня? Как только я больше не смогу — теоретически — производить потомство, я стану природе не нужна. Мой собственный организм прекратит заботиться о самом себе. Я нужна была природе, чтобы произвести еще один или два мыслящих и страдающих кусочка живой плоти — и всё? Всё? Я больше не нужна? Дурацкая программа, надо признать.
Настьке нравилась Розина стать, королевская осанка, она была потрясена ее величием и царственностью. Рассказывала, как все замолкают от одного ее взгляда, как она никогда не кричит — посмотрит, улыбнется, и все стоят навытяжку перед ней. Когда я спросила Никитоса, нравится ли ему Роза, он даже не понял, о чем я говорю. «Ну, Роза Александровна, Никитос, помнишь, красивая, высокая такая!» — принялась объяснять ему Настька. Никитос только пожал плечами: «Не-а. Не знаю». «Ну кто линейки ведет! Грамоту кто тебе давал за плавание? Помнишь?» «А-а, грамоту! — обрадовался Никитос. — Помню… А кто давал — не помню». Вот и весь сказ. Две планеты — девочка и мальчик.
Сейчас я смотрела на Розу. Неужели она действительно такая жестокая? Или это особенность профессии? Как у хирургов? Не будешь жестоким, будешь плохим хирургом?
— Ты что? — Роза похлопала меня по плечу. — Что, серьезное что-то?
— Да нет. Швы разошлись, лоб разбил. Сотрясения вроде не было.
— Не тошнило? — осведомилась Роза.
— Нет.
— Значит, не было.
— Да, его все бьют по голове, бьют, а сотрясения нет.
— Это ты про Дубова, что ли? — Роза прищурилась. — Ох, как не хочется, чтобы он в пятый класс сюда приходил…
— Не берите.
— Как? Как не брать? Мы всех обязаны брать. Вот поставят его на учет — тогда посмотрим, и то… Да ведь родители потерпевших до полиции никогда дела не доводят, как бы ни дрались. Сами виноваты. Вот ты написала заявление в полицию?
— Нет.
— Вот видишь. А написала бы, может, и присмирел бы паренек.
— Мой брат тоже так говорит.
— Кстати, а кто у тебя брат? — вкрадчиво спросила Роза.
— Брат? — пожала я плечами. — Андрюшка.
— Да я понимаю… Я помню его. Очень красивый мальчик был… А кто он? Говорят, что он…
— Ну да, — не дала я договорить Розе. — Что-то вроде того, что говорят.
— Ну-ну… — улыбнулась Роза одной из своих самых страшных улыбок. — Ты, Аня, зря со мной так.
— Как?
— Не откровенна. Может быть, ты думаешь: Роза — цербер, Роза ходит и на всех лает? Может быть, ты думаешь, что я привыкла ко всему этому?
Я не очень понимала, о чем говорит Роза, и уж совершенно не понимала, почему у нее вдруг подозрительно покраснели нос и глаза. Роза умеет плакать? Роза не хочет, чтобы ее считали цербером?
— Хорошо, — кивнула я. — Можно, я буду звать тебя Нецербер? Красиво так, по-немецки…
— Да ну тебя! — отмахнулась Роза и зашагала по коридору, на ходу одергивая разошедшихся старшеклассников, тех, кто вовремя не увидел, что по рекреации идет Не-Цербер.
Хорошо, что они хоть кого-то боятся. Не пряником — кнутом в основном воспитывается человек, увы. Страхом. Я пытаюсь доказать обратное и воспитываю своих пряниками, лаской, дружбой. Получается? Не пойму пока. Вроде да. А вроде и нет. Настька как выла до посинения при любом удобном случае, когда страшно, когда растерялась, так и воет, Никитос чем дальше, тем страшнее дерется. А я им — «Извольте пряничка откушать! Не войте, не деритесь…»
В восьмой «В» я вошла задумчивая. И обнаружила, что меня ждет сюрприз.
За партами сидели девочки, дисциплинированно, положив руки на стол, как первоклассницы. Не играли в планшеты, не хихикали, не тыкали пальцами в телефон, не причесывались.
Четыре девочки, за двумя партами. Больше в классе никого не было. Вероника молча чертила пальцем что-то на парте и время от времени поглядывала на меня огромными глазами.
— У тебя есть восточная кровь? — спросила я ее.
Она даже вздрогнула от такого вопроса.