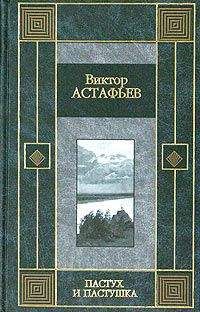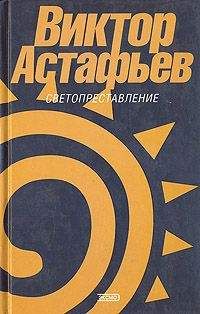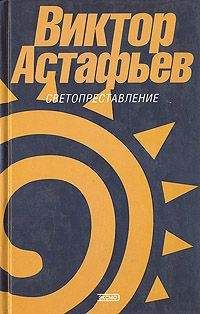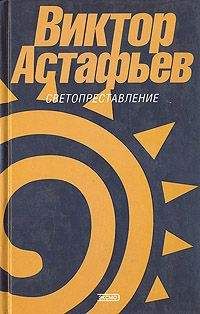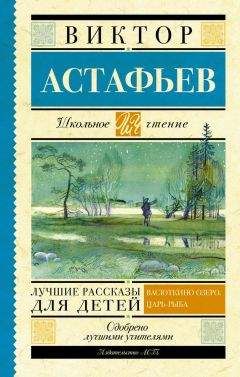Виктор Астафьев - Пастух и пастушка
— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недовольный, подбрасывал монету старшина. — Машина не конь, ждать не любит!
Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому но кухне. В хате сделалось пусто, выстужено. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.
— Мне извиниться или как?
Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустоглазо уставился на Мохнакова.
Старшина что-то глухо бормотнул, прихлопнул шапку на ухе, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, удалился.
Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.
Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговки, черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.
— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся. У нее снова отдалились глаза, но голос был буднично спокоен.
— Да.
— Так иди! Я провожать не буду. Не могу. — И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.
Время шло.
— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, снова расстегнулся рукав, хвостик косы упал и мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшиеся волосы и с сожалением опустил косу на ее спину.
— Я же не виноват… — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой, будто в птичьем гнездышке. «Милая ты моя!» — Борис большим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.
— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло. — Виноватых нет.
— Прощай тогда… — Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, точно в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли кто чего?
Никто ничего не забыл.
«Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так… Ладно, чего уж… Долгие проводы — лишние слезы…» — Борис подпихал солому в угол и отправился догонять взвод.
Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы — топят соломой-облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине.
Борис подивился этой церковке, он почему-то ее прежде не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоин. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.
Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый норов, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже не поцарапанными. Или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!
Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал, кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.
Весело, с прибаутками, военные рассаживались по машинам. Нет народа благодушнее солдат, выспавшихся, поевших горячей пищи, да еще к тому же узнавших, что не топать ножками до передовой.
Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее с довоенных выставочных плакатов. Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, кто норовил и под кожушок рукою влезть.
Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехоты: «Гэть, москаль! Гэть!», «Та що ж ты, скаженный кацап, робышь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лыхо мани!», «Та ихайте скорийше!»
Но по всему было видно — не хотелось им так скоро отпускать москалей и правилась вся эта колготня вокруг них.
Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, как непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавливал шею, да шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от закостеневшего ли воротничка было трудно дышать, мысли ровно бы затвердели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, но лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушей по красивым платкам. Очень он изменился за короткий срок. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожделенно на дивчин не решился бы.
— Мужаешь, Боря! — изумился Филькин.
Лейтенант собрался ответить шуткой же, по увидел Люсю. В наспех наброшенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем забралась в машину и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они сделались родные, — говорила, чтобы лейтенанта берегли, — наказывала, — чтобы Шкалику больше пить не давали.
Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытряхнул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила.
— Храни тебя Бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич. Карышев поправил на ней платок и вскользь погладил по голове.