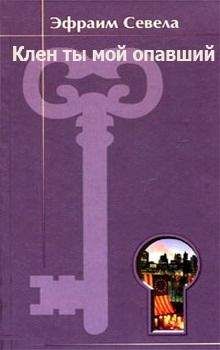Людмила Бояджиева - Пожиратели логоса
Серое, остроносое, сморщенное лицо в обрамлении деревенской цветастой косынки, сложенные на груди иссохшие руки — узловатые пальцы, темные русла вспухших сосудов.
Валентина всхлипнула:
— Ой, мамоньки, она ж у меня одна родная была… И чего ж так жизнь устроена… Лечила, лечила всех… На Дальнем Востоке, когда муж там служил, потом здесь. Мужа, после войны всего насквозь больного и раненного, сама на гроши у дорогих специалистов выхаживала. И ни единого дня на бюллетени — работа, работа… Знаешь сколько зубов перелечила, сколько нервов воспаленных повыдергала, сколько боли успокоила? Думаю, если собрать всех — целый город выйдет. Пятьдесят лет у бормашины отстояла, а нищета нищетой. Левка все пропил и нас вот так оставил… А какой мальчонка забавный рос. — Она подошла к столу, взяла фотографию. — Тут он в школьном ансамбле на гитаре играет, худющий… А это мы в ЗАГСе… Смеются все, нарядные. У меня хала с шиньоном, модно было. В салоне по записи делала за три дня и без подушки спала, валик под шею свертывала, что бы не помять красоту-то…. Словно сто лет прошло… Ты умный, ты должен знать, почему так вышло? Почему так устроено? За что?
Филя уронил на грудь лохматую голову, не ведая ответа на самый жгучий вопрос: куда девается счастье? То самое, для которого родился, рос, учился, мужал? Которое желали все, звеня бокалами на днях рождения, этапных праздниках «выхода в жизнь» — окончание школы, институт, диплом, свадьба… У каждого почти так. Потом фото на кладбищенской плите. А что посередке? Где основное «тело» жизни? Спроси любого, катящего к последней станции, ответит неопределенно: — Трудное было время. Да и не сложилось как-то.
При этом вина и тоска в глазах такая, что ясно — обманули обещания. Обманул их и он сам — не сумел, не сдюжил, не оправдал…
— Твоя свекровь зубным врачом работала? Я думал — деревенская.
— Она потомственный медик. Прадед ещё уездным лекарем был и дед. Как у этого, что записки писал. Да вообще — золотая женщина.
— Булгакова ты читала… — машинально отметил помрачневший Филя, машинально трогая щеку, где скрывался часто беспокоивший нытьем коренной зуб. — Я б врачам памятники ставил. Не конкретным, а как символ. — Он положил на простыню голубые голландские хризантемы.
— Памятник! Тут и похоронить едва наскребла. Хорошо, её пенсию три года собирала, продала кое-что, люди добрые выручили. — Валя перешла в кухню, села за стол и опустила глаза. — Мне сказать надо…Уж лучше все сразу. Ты тут как гость эпизодами появляешься. Хочешь — навестишь, не хочешь — пропадаешь. Нет, я все понимаю… Ну какая я тебе пара? Гаврила Васильич из восемнадцатой квартиры — отставник, вдовец, в двухкомнатной с дочерью, зятем и внуками перебивается. Он ко мне переедет. Тебе тоже определяться пора. Ты, Филя, человек безобидный, доверчивый, легко поддаешься влиянию. Не тяни — женись. Надо жизнь свою серьезно, по-семейному устраивать. Не дело одному в таком омуте слоняться.
Филя смотрел на занавески с выгоревшими маковыми букетами, сквозь которые светились многие ночи — то жаркие, в любовном чаду, то семейно-мирные, с запахом поджаренной «докторской». И мечты, дерзания, и сомнения горькие и страхи… Все прошло. Уходили навсегда занавески и крыша дома напротив с крестами антенн, обсиженными воронами, переворачивалась страница жизни, исписанная торопливо и не очень старательно. А ведь каким дорогим оказался небрежный этот, кое-как набросанный «черновик».
— Постой, чего прямо так уходишь? Ты ж торт принес. Может посидим, помянем усопшую? — остановила в дверях женщина уходящего мужчину.
— Не надо. Я сам помяну, — в птичьих глазах блеснули слезы. Филя целеустремленно зашагал к лифту.
— Я сказать хотела… — окликнула Валентина с порога. — Вообще-то я в тебя верю! У тебя талант есть… Только ты стихов не бросай. Эх, расстались не по-людски как-то… — всхлипнула в след поплывшему вниз лифту.
Брел Филя в сумерках к остановке, словно ролик пленки обратно сворачивал: пришел, прожил кусок жизни и назад… Быстро-быстро пробежали кадры и засветился экран ослепительной белизной. Пустой. Предстояло на этой торжественной чистоте писать иные картины мужественной бестрепетной рукой. Теперь уж точно — набело. Растворилось в смутном мареве суеты прошлое и почувствовал Филя, что начал он расти не в ботву, а «в силу». Так тянется к свету бамбуковый росток — аж жилки хрустят и крепким, гибким становиться устремленный в высь стебель.
…Терна бежав, лавра взыскуя,
горечь смакуя горних отрав,
я говорю: Зверь шестикрылый!
Чистая Сила! Благодарю!
Не отнимай скорбного дара,
ярость ударов — не отменяй!
не упаси и не помилуй
Чистая Сила! Оголоси!
Лавр не к лицу, терн не по силам
только б хватило крови словцу…
26
Пары героической эйфории побродили в организме и как-то выдохлись. Одному и впрямь стало неприкаянно. Ни Валентины, ни Севана. Быт на поверхности спокойный, а подводное течение так и штормит. Ходят там, в темном омуте страшные волны, да того и гляди — вырвутся. Отсюда и невроз и сон плохой и трепет — будто ждешь чего-то ответственного. Как перед экзаменом. А ждал Теофил многого — разгадку тайны ждал, встречу какую-то, что только стихами описать можно, востребованности своей новой силы ждал. А главное — ответ Севана. В отделе НЕХИВО сообщили, что Вартанов в командировке. Он снова звонил и снова получал тот же ответ. Отчаявшись, Филя запечатал свои исследования в конверт и отправил заказное письмо в институт Земли. Понимал, что поступает рискованно. Получит Севан записки и поймет, что Филе и про бункер и про встречи его с Алярмусом известно. Если свой он — возьмет в помощники. Если враг — попытается убрать. Интересно, как? От одних размышлений о методах воздействия сообщников Алярмуса, Филю начинала колотить дрожь и даже свежайшие беляши, принесенные продавщицей Жанной, не лезли в горло. Он исхудал, замкнулся и все время затравленно озирался.
…Однажды вечером, в час необычайно теплого и слякотного апрельского заката, возник из вредного московского смога прямо перед киоском Фили странный человек и он с минуту молча таращился на него через стекло испуганные глаза, а потом выскочил на воздух и шумно задышал.
— Я… я… Я звонил, хотел лично передать… Написал тут соображения… Пакет отправил на Институт. Исключительно по материалам ясновидения…
— Получил только сегодня. Прости, что исчез. Поездить пришлось. Может посидим на воздухе? — Севан обмельчал и как-то сник. Даже глаза выцвели. И завитков никаких нет — коротко стриженный бобрик, торчащий перьями как у мокрого ворона. Или это раньше казался куратор доверчивому Филе раскрасавцем — богатырем?
— Посидим. Отчего ж… — не попадая в рукава, Филя всунул свое вдруг озябшее тело в куртку и несколько раз по уши обмотался связанным Валькой в расцвете романа непомерно длиннющим шарфом.
«Вот и хана тебе, ясновидец…» — подумал с прощальной тоской, глянув на лужу, раскинувшуюся вместо книжного развала. Уже третий день Жетон не выходил на свой пост — в загул ушел ли в творчество. Одно к одному. Смиренно топал Филя за широко шагающим человеком, которого Алярмус назвал «своим».
Они углубились в сырую, довольно мрачную аллею начинавшегося за метро парка. Отыскав скамейку, Севан застелили её обнаружившейся в кармане прессой. Сели, помолчали. Севан жадно затянулся. Филя не угостился сигаретой и не подал вида, что удивлен курением Вартанова.
— Я о тебе помнил. В твой аппаратик такую штуку сунул, что звонок должен был пройти сразу ко мне или очень доверенному лицу. Ну, на всякий случай, что бы подстраховал, в случае… — Севан хотел улыбнуться, но только искривил губы. — В случае нападения спрутов.
— Не пользовался я мобильником и не нападал на меня никто. Работал над тезисами. — Филя сурово взглянул на собеседника. — Мне важно знать ваше… твое мнение. Насчет видений. Сейчас же.
— Идет. Время у меня сегодня полно, — Севан бросил взгляд на свои темные часы и воздел глаза к голым веткам, поблескивающим в свете неонового фонаря.
— В общем, ты верно усек тенденцию. Если нельзя уничтожить, надо растлить. Это ещё Аллен Даллас про Россию заметил. Вытащил стержень главный, на котором все держится и отдыхай — обездушенные люди уничтожат себя сами. Выморочный род, уходящий… Ведь приглядываться к окружающему страшно. Газеты читать, телевизор смотреть — страшно. Подавляющая энергетическая парадигма — садизм, презрение к жизни… Я тоже думал обо всем этом и наблюдения записывал. Дам тебе на экспертизу.
— Про Алярмуса? С большим любопытством ознакомлюсь, — пошел вабанк Филя, дерзко глянув на горбоносый профиль Филя и в паническом ужасе думая: «Так было это все или не было?» Не дрогнул Севан — сник.