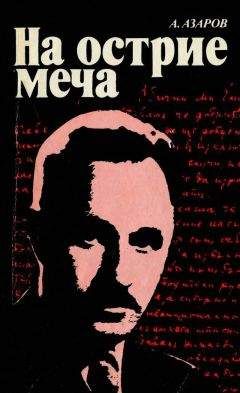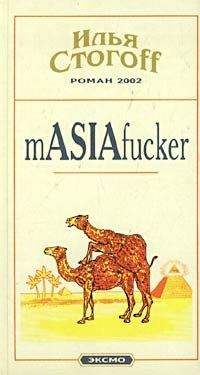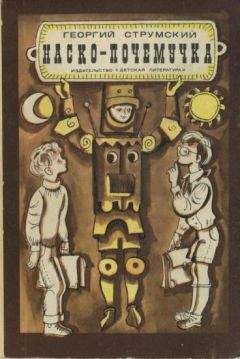Илья Троянов - Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом
Несколько болельщиков бухарестской «Стяуа» жили в комнате для мужчин на четвертом этаже, а с ними два болгарина. Всего их там было восемь: каменщик лет примерно сорока, коренастый такой тип, по которому видно, что он не меньше двадцати лет проработал на строительстве. Судя по всему, он и был зачинщиком. Из болгар один был такой невзрачный паренек, учитель, лет тридцати. Он, пожалуй, не принимал в этой истории никакого участия. В отличие от двух братьев из Бухареста, оба почти уголовники, задиристые, таким лучше не попадаться. И эти вечные футбольные матчи, их, видно, совсем достали. Должно быть, они втихаря жестами и мимикой договорились, как бы им расквитаться с арабами.
То, что произошло потом, я представляю себе так: одна из старых газет, которые валяются у нас повсюду, лежит развернутая на столе, и кто-то из румын чистит на ней яблоко, при этом его взгляд падает на большой портрет одноглазого Моше Даяна. Не исключено, что Моше Даян в очередной раз пригрозил показать арабам, где раки зимуют. И вот, покуда румын грыз свое яблоко, ему пришла в голову грандиозная идея. Остальные с восторгом ее подхватили: прибьем портрет к дверям. Но одного Даяна все-таки мало. Тогда они приклеили фото на крышку от обувной коробки — братки откуда-то увели пару мокасин сорок пятого размера. А изо рта у Даяна пустили текст, как это делают в комиксах: положил я с прибором на вашего Магомета или что-то в этом духе. Понимаешь, уж на что болельщики бывают тупые, но и они краем уха прослышали, что эти шейхи имеют какое-то отношение к Магомету. Мало того, они пририсовали рядом женские причиндалы, я сам видел, всего несколько штрихов, но догадаться вполне можно. Не забудь еще свинок вокруг Моше, это уже была идея каменщика, и свинки тоже получились очень похожи. Он, конечно, возгордился, но потом дорого заплатил за эту свою выдумку, если считать, что из-за такой шутки вообще стоит проливать кровь. Потом они повесили картонку с наружной стороны двери, прибили ее ботинком и, насколько я их знаю, по-свински при этом ухмылялись.
А мы сидели вокруг стола и гоготали, прямо закатывались, представляя себе, какую рожу скорчат там за дверью эти верблюды. Только учитель, тот держался особняком. Он был человек слишком образованный для таких забав. Вдруг мы услышали несколько выкриков, потом все стихло, никто не гоняет мяч, тишина полная, чистая победа, можно сказать, арабы небось хвост поджали. Ну так-то мы их в два счета сделаем. Наступление по всему фронту. Я закурил сигарету и хотел с удовольствием подымить. А тут один из братьев Радуче выглянул в коридор, никого и ничего, коридор пустой, дело сделано. Полный успех. Все скажут нам спасибо, мы — герои Пельферино. Другой болгарин, толковый такой мужик, тот ухмыльнулся и поднял сжатый кулак. После чего мы все хором исполнили «Стяуа, Стяуа», болгары сразу подхватили мелодию и запели с нами ляляля-пяля-ля-ляляля-ля. Настроение у нас у всех отличное. А дурак учитель, он со страху чуть в штаны не наделал, ну мы его и высмеяли, но только этот трусишка был не так уж и не прав. Забился себе в уголок за дверью, возле шкафа. Мы про него и думать забыли.
Сигарету я докурил до конца, один из братьев сидел на подоконнике и разглядывал улицу, что вела к главному зданию, хотя разглядывать было в общем-то нечего, несколько фонарей, ровный свет. Остальные для кайфа положили ноги на стол. И вдруг дверь распахнулась, пятеро мужиков, у каждого в руке нож, ворвались к нам, и, прежде чем каменщик бросил сигарету, в него вонзились два ножа, били в плечо, в живот и в бедро. После первого же удара один из братьев упал со стула и пополз с жалобным подвывом по кафельному полу. А другой брат распахнул окно, помешкал было, но потом увидел, как один из арабов мчится с ножом прямо к нему, и выпрыгнул во двор. Каменщик пробовал отбиваться от ножей правой рукой, но она тут же превратилась в сплошную рану, клочья кожи, кровь. А учитель спрятался в шкафу, двое из болельщиков сумели в этой суматохе вырваться из комнаты и помчались вниз по лестнице с криком: «На помощь!» Двое румын забрались под стол и оттуда били по рукам и ногам, какие только увидят. А раненый уже не мог больше ползти, он только свернулся клубком и стонал, его пинали ногами, туда, где всего больней, а он перекатывался с боку на бок, стараясь увернуться от ударов. Арабы дрались молча, без того рева, с которым они играют в футбол. А потом наступила тишина.
Те, кто рискнули заглянуть в комнату, увидели, что один лежит неподвижно в луже собственной крови, а другой трясется, закрыв руками голову и тихо подвывая. Два румына выползли из-под стола, а учитель осмелился вылезти из шкафа, лишь когда услышал голоса итальянцев. Но к тому времени обоих пострадавших уже увезли.
А теперь только представь себе: у каменщика около сорока ножевых ран и он остался жив. Вот это медведь, такого ничем не проймешь.
— Скажи, пожалуйста, правду ли говорят, что посол Израиля навестил их в больнице?
— Я тоже что-то такое слышал, очень может быть, что и навестил, но вот что он повесил им на грудь орден, об этом можете мне не рассказывать.
ИЗГНАНИЕ. Говорят, что даже королевский сын никто в чужой стране. А изгнанник значит и того меньше. Совсем ли он умирает, покинув родину, или только частично, как обгорелое дерево, из которого по весне выбивается новый побег? Свое время, нет, не так, свое ненужное время он проводит в поезде, который стоит на запасном пути, перекрытом памятью и надеждой: возвращение будет прекрасным, это гонит его вперед, он живет ради грядущего возвращения, ради этого единственного дня, который перевесит все и в который все сбудется. Исполненный надежды, он сперва взрослеет, потом старится и достигает должного возраста, чтобы вместе с другими беженцами собраться на кладбище, нести вслед за гробом облетевший венок с утешительной надписью, адресованной тому, кто так и не смог дождаться, и с пожеланием всем, кто еще продолжает ждать: «В будущем году — на родине».
Изгнанника нельзя путать с другими, с перемещенными лицами и переселенцами, с эмигрантами — искателями счастья, с выезжающими легально и остающимися нелегально. Идеальный изгнанник так и живет без паспорта, не принимает другое гражданство, а справку беженца и связанные с этим неприятности он носит при себе как разверстую рану. Язык хозяев он изучает лишь в той мере, в какой это нужно, чтобы заказать в кафе сандвич, кружку пива и пробежать глазами чужую газету.
Изгнанники живут друг подле друга как опасливые соседи; лишь случайные встречи на перекрестках их бытия — у торговца разнородным товаром, к примеру, который возле кассы продает в стеклянных банках пикантные оливки и маринованные овощи. У стены стоят туго набитые мешки, а над ними, на уровне глаз, висят объявления, извещения о смерти, предложения, рекламки языковых курсов, известия о пропаже. Или сообщения о предстоящих демонстрациях по всевозможным поводам, по поводу государственного визита, наносимого диктатором, главой партии, или по поводу Дня свободы. В такие дни из подъездов, переулков, боковых улочек, выходов и переходов стекаются изгнанники в сопровождении сочувствующих, они стекаются на площадь Свободы, перекрытую полицией — услуга, которую полиция с удовольствием оказывает именно в День свободы, благо свободы требуют не здесь, а в другой стране, звучат пламенные речи, гул возмущения при каждом упоминании диктатора, партии, системы, в речах, которые призывают к революции, или к перевороту, или, по меньшей мере, к бойкоту, интернациональная поддержка, солидарность, помощь, с трибуны перечисляют одно преступление за другим, из толпы раздаются выкрики: «Долой! Убийцы! Сопротивление!» — короче, в некоторых случаях все эмигранты едины. Тем временем стало прохладней, на толпу обрушивается дождь. Он лихо стучит: так-так-так — хватит, надемонстрировались! вы чего это говорите? к небу вопиющая несправедливость! Назад, под крышу, небеса да избавят меня от ваших затей. На трибуне в самом непродолжительном времени остаются вести агитацию лишь небрежно брошенные памфлеты, быстро размокшие акты капитуляции перед бурями истории. Изгнанники спасаются бегством на улицу наслаждений, к своим преуспевающим в кулинарии землякам, которые процветают благодаря неумению соотечественников готовить и любопытству местных жителей, благодаря сотрясающим порой, словно озноб, приступам ностальгии, которую они якобы способны унять коврами, настенными украшениями, вазами, скатертями. С первым кусочком закуски ярость, досада, издевательский смех и единство распадаются на отцов семейства, на вдов, электриков, курильщиков, на людей малорослых и рослых, на анархистов, социал-демократов и монархистов. А ностальгия оседает на нёбе, и ее не выманить оттуда никакой шуткой никакому человеку, тут уж не поможет интерьер и толстенький хозяин тоже нет, как шустро он ни бегай, как ни пожимай каждую руку, как ни потчуй гостей домашним вином, наоборот, все становится только хуже, еще хуже, едва начинаются песни, гимны возвращения, песни родины, некогда с неохотой разученные в школе, и песни эти следуют за трапезой неизбежно и неотвратимо как кофе и ликер. Сощурившись, изгнанник выходит на улицу, в ночь, пытается разобраться в расписании трамвая или метро и неверными шагами возвращается домой в свое временное пристанище.