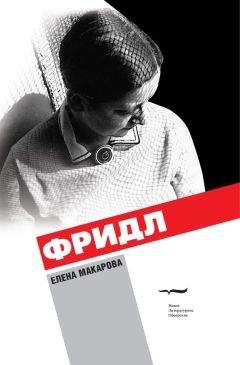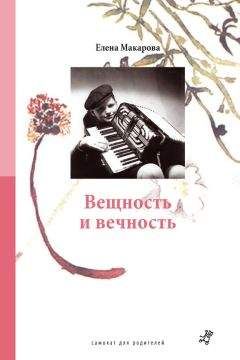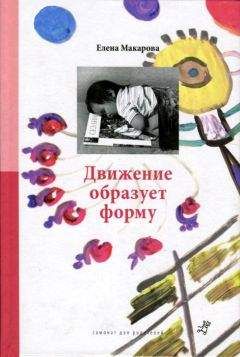Елена Макарова - Вечный сдвиг. Повести и рассказы
Мараться?! Никогда. Одним горжусь – ничего не брала, пусть в любой час дня и ночи придут, пусть руки мне веревками свяжут, пусть все вверх дном перевернут… Вера Ивановна аж пятнами пошла от этого признания, столько воли и правды вложила она в заключительные слова.
Ленуль, мне бы сына как-то определить в менеджмент, кстати, какого числа вы планируете выезд в гости? Вера Ивановна не называет страну вслух, а «гости» произносит с вопросительной интонацией, глядит в упор, советский наш сверхчеловек, сколько дел успела спроворить на кухне под ля-ля, а дату никак вот не запомнит. Да ведь валом валят, как удержать всех в одной горемычной головушке, а компьютеров не ставят, но это так, между прочим, она-то знает, что я компьютер привезла из Америки. А в комитетах стоят, по три штуки в комнате, иначе не уследить, и Веру Ивановну опять уносит в эмпиреи раздумий, а я продолжаю твердить про дату выезда, а она – не успеем, боюсь, а я – тогда и мы не успеем стихи прочесть и вашего сына к менеджменту приладить и насчет компьютера подумать.
На этом разговор прервался – пора к гостям, – и она села демократично не во главе, а на углу, семь лет без взаимности, что было замечено специалистом по ближневосточному региону, но Вера Ивановна и не взглянула в сторону шутки, не взыграла.
– Эпидемический дом у вас, – Вера Ивановна не шутила.
С чего, в разгар непосредственного веселья, среди дружелюбного застолья, Вера Ивановна начинает темнить, как на службе, и со сладких мыслей о загранице сбивает на мысли о нашем доме, где происходит что-то ужасное, судя по модуляции ее голоса. Нельзя с органами в кошки-мышки играть, даже в период свободы мысли.
А что если Вера Ивановна про эпидемию завела, чтобы нас еще раз прощупать?
– Да что за эпидемия, Верочка?
– Все пишут, – выдохнула Вера Ивановна и под прическу полезла, что-то там подкрутила, судя по движению пальцев.
– На тебя пишут?
…Нет, ни в коем случае не надо этого переводить на иврит, ни на какие вообще языки переводить не стоит наше унижение. Лучше выпить снотворного, переспать перестройку. И пусть отравленный мозг утекает за границу, хотя и жаль временами, зато вместе с серым веществом утекает и человек, его содержащий, освобождается жилплощадь, и оставшимся становится просторнее вдыхать и выдыхать, мы же не жалеем, когда переполненный вагон метро покидают излишние граждане, мы физически этому радуемся, так как дышать – это врожденная потребность человека, как еда и сон, и если уж еды не осталось и сна не вызвать без снотворных – дышать мы обязаны, и потому на отъезжающих лучше смотреть, затаив дыхание, – в этом и есть суть нового мышления. Каждый имеет право на выезд и въезд. Многие хотели бы к нам въехать, но пережидают, пока те, кто выезжают, освободят место. Особо нетерпеливым гражданам, преследуемым ЦРУ и ФБР, наша дружелюбная предоставит квартиру вне очереди. И был уже такой почин, правда единичный пока. Даже черномазым нужны мыло и шампунь, а не пустая вода с хлоркой.
Ну что было переться к Вере Ивановне?! Казалось бы, хочешь ехать – плати и езжай. Нет, это неинтересно! Из этого сюжета ничего не проистекает, а нам нужно, чтобы проистекало, иначе не о чем потом рассказывать и писать, а мы-то и живем, чтобы рассказывать, а рассказываем, чтоб жить.
* * *– В вашем доме пишут, – заявляет вдруг Вера Ивановна. – И этот дилетантизм в литературе обойдется вам втридорога. Люди наши обидчивые и подозрительные, считается, что от недостатка ласки, в детстве, мол, им недодали. Так додайте себе в зрелые годы, пощадите друг друга, – говорит, а сама в прическе возится, что-то у нее там отказало, может, блок питания мозга ослаб, и из-за этого она еще больше нервничает, но поди вычитай причину в ее новых глазах с линзами! Раньше настроение ее распознавалось по очкам – очки сняты или надеты, если надеты, как именно, на лоб, ближе к носу, сидят на хрящике или на самой косточке носа, смотрит сквозь стекла, или поверх, или, может, сняла и играется с дужками, чешет ими за ухом, у виска или в носу, – это при глубочайшей внутренней связи с подателем бумаг, – словом, когда специалисты по Вере Ивановне изучили все нюансы игры в очки, она сменила их на линзы. Новое мышление требует и новых форм организации производства, прежде всего – прямого взгляда на вещи, в данном случае одушевленные, никаких очкопротираний байковой тряпочкой, никаких уклонений взгляда в сторону. А от этого слезятся глаза, и вот интересно, одни тотчас бросаются утешать, а другие, стопроцентные эгоисты, каменеют, предполагая отказ. И за это Вера Ивановна их наказывает продолжительным копанием в бумагах на столе, хотя дело лежит прямо перед ней – и решено положительно. Глаза-то у нее слезятся не потому, что отказ, а потому, что линзы отечественные. А ей нужны заграничные. И этого посетители никак уловить не могут, сколько ни намекай. Господи, когда мы, наконец, помолодеем? Годы застоя наложили на наши женские личики печать неудовлетворенности. И какой труд надо вложить в себя, чтобы расцвести, чтоб всякие мелочи радовали, а большие неприятности не сильно огорчали?! Это и есть психологическая перестройка, самая, может быть, тяжелая, но крайне необходимая. Потому что еще множество вещей осталось от застоя, да те же очереди, в которых женщины теряют привлекательность и стареют на глазах. На их месте Вера Ивановна лучше в заграницу бы не поехала, чем целыми днями стоять, но здесь она не советчик, теперь у нас каждый делает, что хочет. И вот эту-то конечную фразу она произнесла вслух, чтобы как-то прервать общее молчание.
– Теперь у нас каждый делает, что хочет.
Во времена застоя за этим утверждением обязательно бы последовало «но».
Нет, ну какое все же унижение быть зависимыми от каждого Веры Ивановниного чиха, а с другой стороны – не день рождения этот, осталась бы я в Химках с «Русскими пословицами и поговорками» в двух томах, сочиняла бы разнузданные пасквили, за которые пока вроде бы не сажают, а теперь мне отсюда жалко всех, даже Веру Ивановну.
– Но это не означает, что мы, со своей стороны, не будем критиковать перегибы и перехлесты, – вставляет Вера Ивановна свое «но», зря я расслабилась. – Особенно если они переходят все грани и становятся эпидемией.
– Ты говоришь о вещах антиперестроечного содержания, направленных против гласности? – приходит на помощь внучка Долорес Ибаррури.
Вера Ивановна затрясла головой. Что там в ее голове происходит? Переволновалась из-за мамы? Хочет, чтобы виновники заговорили первыми? Может, выпить за ее здоровьице?
А она уже чуть не плачет, это тоже чувство, нам известное, когда, например, за границей и не знаешь языка, а очень высказаться хочется, так тоже чуть не плачешь, но мы-то не за границей!
– Ребятки мои хорошие, головушка моя бедная! Сколько в моей голове хранится ваших жизней, ваших тайн, ваших судеб, все ваши чаянья, все неприятности и несчастья у меня вот здесь, сто тысяч в одной голове, и она разламывается и трещит, – и правда послышался треск, из недр прически вырвалось сипение, но Вера Ивановна уже расходилась в речи, уже не обращала внимания на чуждый механизм в мозгу, – в одном моем сердце сколько схоронено, и не винтиков, живых людей, а у каждого – личность, а у каждой личности – тайна, и никакие, поверьте, никакие, – в горле у Веры Ивановны пересохло, и она залпом осушила бокал шампанского, – знаки внимания не покроют ту затрату нервных ресурсов, те бессонные ночи, когда ворочаешься и ворочаешься и сон не идет. Но вот пришла гласность, – Вера Ивановна паузой отметила удачный переход от сна к бодрому политическому моменту, – и мы со всей прытью бросились разоблачать прошлое. И во что это на сегодняшний день выливается – в грязь, которую мы, не стесняясь, льем друг на друга. Некоторые считают эту грязь гласностью. Возьмем ваш дом. Пока вы разоблачаете недостатки в нашей бывшей системе, за вашими спинами мелкотравчатые мещане ковыряются в грязном белье. Эта история с мылом, зачем ее обнародовать, мыла от этого не прибавится. Из-за куска мыла сын родителей порочит, а ты, Вера Ивановна, выгораживай! Одних отмоешь, другие пишут: срубили верхушки тополей. Да ведь это только к лучшему. Свету стало больше, сами знаете, как у нас с лампочками, опять требуют восстановить срубленные верхушки деревьев – ну как я могу таких склочников за границу послать, какое мнение сложится о наших людях за рубежом, могу ли я лично поручиться за распоясавшихся лжеписателей? Да при особом положении нашего города! Хотелось бы знать, где локализуется этот гейзер, этот вулкан, эта фудзияма инфекции! Потому что вы-то к сожалению и можете пострадать в первую очередь, в силу профессии, и даже я буду бессильна. Никто не поможет, если сам себе не поможешь, – Вера Ивановна прополоскала горло водкой, потянулась было к прическе, но вовремя сама себя одернула, и очков у нее теперь не было, чтобы снять, снова надеть, для перемены декорации, для краткого переключения с последующим еще более глубоким погружением в тему, и все-таки она и с этим моментом справилась и пошла на дно, где и находился главный подводный камень. Личность Михал Сергеича. – Да, он не святой, и теперь мы имеем право открыто подвергать критике любого гражданина страны, но критика должна быть конструктивной и базироваться на фактах. Да если я вам сейчас вслух зачитаю пьесу, которую сочинили члены вашего кооператива «Дружба», вам стыдно станет. Это не литература, а политическая диверсия. Во вверенном мне городе, где из-за этой пьесы на меня пальцем станут указывать как на врага перестройки и лично Михал Сергеича, которого я уважаю и не позволю…