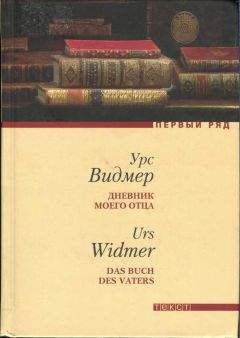Славко Яневский - Песье распятие
Вечность, проходящая сквозь нас неисследимо, становится раздробленной и бесцельной. То, что в ней могло бы сделаться блеском, уже пепел, ни под золой, ни поверху нет ничего – ни знамения, ни крика. Сознание пытается выдраться из этой смуты и воротить к себе жизнь со всем ее беспорядком. Сознание хоть и не вечно, а все же не смерть. Еще нет. Оно выбирается из пузырьков льда, рвется к жизни в жизни.
Я лежу. Среди людей и наедине с собой, напластываюсь поверху туманной бесформенностью, а в самом низу у костра моя скорлупка, увитая неясными снами, по которым проходят, прозрачные и немые, ни живые, ни мертвые, мои знакомцы: отец Прохор, Теофан, Русиян, Симонида, за ними появляются и тоже исчезают Ион, Катина, Пребонд Биж, потом кое-кто из мертвых: Стоимир, Ганимед, кузнец Боян, матушка моя Долгая Руса. Такие, какими я знал их. И все же другие. Бесплотные и сквозистые до последней нити крови. Мягкие и окоченелые. С едва различимыми лицами. Неслышные и чужие. Призрачные. Не страшусь их и не удивляюсь, что они – лиловатая мгла в лиловом. Меня разбирает любопытство. Хочу что-то сказать, но не знаю что и молчу. Немо слежу за ними неким внутренним оком. Не приветствую их, не прощаюсь. Они обходят меня. Их тени трепещут среди теней буков и грабов. Расплываются в прихлынувшем лунном свете, и свет расплывается тоже, собираясь внутри меня мраком с редкой серебряной пылью.
Меня пробудили крики, вырвали из земли – я уже запустил в нее корни. Мы вскакивали один за другим. Стражник подвел к встрепанному Папакакасу Вецко, нашего гонца в монастырь Святого Никиты, за ним покорно тащился мул. Известие, мной предугаданное, не удивляло: отец Прохор и Теофан благодарствуют, что про них вспомнили, однако останутся на своем месте – алтарь, коему они предстоят, ни пред царем, ни пред разбойником не покидается. Вецко мог бы теперь устроиться возле погасшего костра да поспать, а он, съежившийся от усталости, стоял в нерешительности. Сгорбился, переминался с ноги на ногу. Папакакас подошел совсем близко. Спросил, что еще, и ждал ответа, вместе с ним ждали мы, Вецко, задрожав, шепнул вроде бы имя, только я не расслышал – чье.
Ночь проходит и пройдет, холодный месяц в вышине словно бы подгрызла внезапная теплота, как дыхание обнюхавшего его зверя, или ветер, непостижимым способом добравшийся до него из своей норы, где обитает тайный огонь и вечность. Воздух подрагивает. То ли от звука предутреннего пробуждения, то ли от слабой волны света, полегоньку завладевающего землей и затопляющего все на ней. Вдалеке на небе открывается розоватая рана, солнце снизу уже изготовилось зализать ее горячим языком, залечить. Коротко вздрагивают ветви буков и грабов, словно присоединяясь к перекликам рябчиков. Мрак собирается в полосы, в толпы вытянутых теней, людей и деревьев. Где-то по-песьи подал голос дикий козел.
Вецко повторяет произнесенное имя, но и теперь неясное. «Русиян? – переспрашивает Папакакас, и голос у него не удивленный, а сонный. – Что он? Ты его повстречал?»
«Он здесь. Хочет с тобой увидеться».
Мы разом вскочили на ноги, среди первых Парамон и Богдан, заспанные и злые, злее некуда: причинитель их бед очутился совсем близко от них. Беззубый Парамон готов был деснами – так ненавидел – ободрать до костей бывшего своего властелина, а тот выходил из древесной тени и направлялся к нам, безоружный, с непокрытой головой, похожий на человека, заплутавшего в незнакомой местности, который теперь идет себе наобум, скорее лениво, чем осторожно. Богдан нагнулся и поднял с земли копье, принадлежавшее кому-то из убитых нами бижанчан, украшенное в пяди от острия лисьим хвостом, знаком Пребондовой десятки. Вецко нерешительно, с мольбой протянул к нему руки, при слабом восходном свете лицо его казалось еще более исхудалым, усохшим, постаревшим, в глазах, словно и не молодых, был страх.
«Нет! – крикнул он протестующе. – Русиян мог меня убить, но не убил».
И Парамон, вооружившись ратной секирой, обратился в живое мщение – того гляди опередит следопыта. Папакакас смирил их мановением руки, вроде бы смирил, спокойный, не выказывающий неприязни к пришельцу. Молча ждал, когда тот приблизится, затем и сам шагнул к нему. Они стояли близко друг против друга, мирные на вид – вот-вот разойдутся, слегка удивленные: не знакомы, просто вызвали взаимный интерес.
«Я ждал встречи, вельможа. Не так быстро и не здесь, а ждал. Бог перекрестил наши дорожки и столкнул, пора нам, значит, поделиться и своей враждой, и своим добром».
«Нет у меня добра. Ни здесь, ни в Кукулине. Мы теперь ровня, голодранцы и жертвы Бижа».
«Предлагаешь единение?»
«Если поверишь мне, ты и твои ратники, я пристану к вам с парой, пока что с парой своих людей. Все мы, ты, кукулинцы и я, перед одной опасностью, один у нас враг. Для Пребонда Бижа каждый по отдельности слаб. Я хочу, чтоб ты знал это».
«Знаю. Ну и что? За нами гонится Пребонд Биж. А за мной еще и царское войско, то самое, с которым ты повязан одной веревочкой. Поверить тебе – какой залог предлагаешь?»
Не оборачиваясь, Русиян позвал:
«Роки, Житомир… Идите».
К нам приближались двое. Нет, не двое. За ними шла и она, Симонида. Подальше, локтей сто от нас, ржали невидимые кони. Я стоял недвижимый, охваченный равнодушием. Моя грешная, тайная любовь не взволновала меня. Я даже не спрашивал себя, как она оказалась здесь, среди нас.
«Мы убили стражников и вывезли ее из Бижанцев». – Только это и вымолвил Русиян. Отступил, давая Симониде место: скажи им.
Она не глядела на меня, ни на кого не глядела. Стояла спокойно, лицо бледное, губы сухие и бескровные, утерявшие соблазнительную полноту. Только глаза были прежние, в них подрагивали зеленые огоньки греха. Я перехватил взгляд Богданова сына. Утренние лучи будили в нем мужские желания.
«Если до завтра Данила и его люди не вернутся, всех, способных держать нож и меч, Биж двинет на Кукулино, на Любанцы, на монастырь».
«Не верьте ей, – усомнился кто-то. – Втянет она нас в беду».
«Верно, – согласился Папакакас. – Откуда мне знать, Русиян, что ты не ведешь за собой царевых платных убийц?»
'Ты хотел залога. Вот он. Оставляю тебе свою жену Симониду».
Она не твоя жена, чуть не крикнул я. Однако промолчал, знал, что вырешит Папакакас. И он вырешил.
«Оставайся с нами. Я подумаю».
7. Карп Любанский
Он думал долго. От происходящего его словно отделяла невидимая стена – минувшее, с которым его ничто не связывало. Бродяга, человек без родины, никогда он не встанет за чуждый Рим [23], не подаст спасения Кукулину, над которым ураган собирал тяжкие, злые, смертоносные тучи. Он был не из тех, чьи чувства могли обратиться в гнев и горечь из-за судьбы людей под чернолесьем. Как и Пребонд Биж, он был разбойник. Сейчас Папакакас решил отвести своих людей – убраться с дороги сильного. И тотчас же, как-то внезапно, не успев разобраться в причинах несогласия, ему воспротивился Карп Любанский. Прикрывая волнение, пытался влить в предводителя благоразумие и трезвые чувства. В бешенстве мести Пребонд Биж всех поколет на своем пути, Кукулино и другие села станут гробищем, жалкими останками жизни. Папакакас глодал кость, оставшуюся от вчерашнего пира. Все видели в нем дикого атамана, которому лучше не перечить, и не лезли с советами. Кинул мосол через плечо, костлявые пальцы отер о волосы. Правый глаз его прикрывала тень с запада, левый был обведен кольцом солнечного света. В его разуме – его сила. Сила эта блюла свою правду: жить и грабить, жить и бежать от смерти, жить и искать золотую жилу чужого богатства. Теперь я знал, что это Карп, Парамон и Богдан подбили его спасать нас от погони. В его широких ноздрях гудели невидимые осы.
«Не понимаю тебя. Хочешь, чтобы я повел вас на погибель?»
«На погибель? – тихо переспросил Карп. – Чью погибель? У сел нету защитников. Погляди, сколько нас тут из этих сел, – он сделал широкий полукруг рукой. – Больше половины. Мы, атаман, должны защитить Кукулино, Любанцы, Бразду. И монастырь с хилыми стариками».
«Не понимаю тебя. Кто это вы? Без меня?»
«С тобой. Нам суждена битва с Бижовыми людьми».
«Нет. Пока мы вынуждены уступать сильному».
«Тогда без тебя, одни».
«Без меня – нет. Я для вас закон. И для тебя тоже».
«Закон? – вмешался Тане Ронго. – Миг подошел решительный. Закон для нас – единение, а если не будет единения – расходимся. С тобой останется меньше, чем полагаешь. Может, и рискованно нападать на Бижанцы, но вдвое рискованней ждать, промедленьем искушая судьбу».
Мы уже расходились. На Карповой стороне было большинство: Парамон, Богдан, Вецко, Тане Ронго, братья Давид и Си-лян, Русиян со своими ратниками, Яков и Баце, молодые люди, неведомо откуда и как попавшие в отряд, были и не во всем согласные с атаманом – колебались между решимостью Карпа возвыситься над разбоем и нежеланием атамана лезть на рожон.