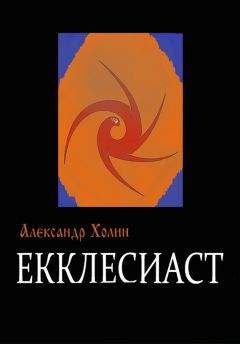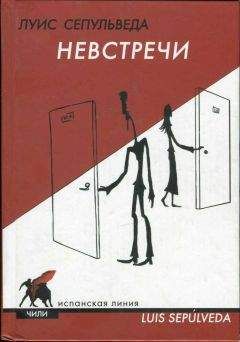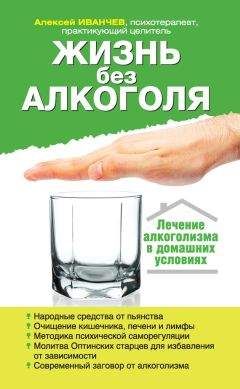Гюнтер Грасс - Крик жерлянки
О визите в Висбаден читаю: «Боже, что стало с Доротеей. Профессию детского врача она забросила. Кругом сладости, она заметно толстеет, становится угрюмой, замкнутой; ей интересен разговор только о собственных недугах — одышке, чесотке и т. д.
Доротея ни разу не обратилась к Александре. Ее муж, дослужившийся до должности начальника отдела в Министерстве экологии, хотя и поддержал беседу о нашей затее, о трудностях ее реализации, однако говорил при этом, как обычно, свысока: «Поляки отдали бы все и дешевле. Аренда — чепуха. Теперь, когда граница признана, нужно требовать передачи земли в полную собственность, по крайней мере, территорию кладбища. Это вполне оправдано; в конце концов, когда-то все там принадлежало нам». Александра смолчала, а я заметил: «Не забывайте, что и мы сами, и наши покойники — там всего лишь гости». Потом мы перешли к таким темам, как гессенские мусорные свалки, становящиеся все более мелкими межпартийные склоки и предстоящие выборы в ландтаг. Подарили мне альбом, который у меня уже есть, — Дрост, «Мариинский собор», а Александре — набор кухонных ножей, купленный в какой-нибудь дешевой лавчонке «Товары стран «третьего мира». Получив эти подарки, мы промолчали».
И наконец — последний этап на этом крестном пути, который мой прежний одноклассник счел необходимым пройти шаг за шагом, так же педантично, как он исследовал напольные мемориальные плиты. Поразительна выдержка Пентковской; она крепилась до самого Лимбурга, вынесла троих дочерей Решке и их сожителей, а ведь могла бы все бросить еще в Геттингене. Сам Решке отнесся к ее выдержке так: «Любимая! Сколько тебе пришлось вытерпеть! Эта холодность! Это бездушие! — Первоначально мы собирались встретить Новый год с Маргаретой и ее Фредом. Так захотела Александра. Когда же моя дочь вдруг высказала-таки свое отношение к нашему кладбищу, то это оказалось слишком даже для Александры. Грета, как я называл ее раньше, ткнула пальцем в разложенные фотографии, прищелкнула языком. «Вы застолбили на рынке свой участок, спрос обеспечен! — воскликнула она. — А сколько вы на этом заработаете?» И тут же добавила: «Да, мозги у вас в порядке». Фред, который считает себя артистом, а на самом деле живет на содержании у моей дурехи Греты, подхватил: «Точно! Тут главное — сообразить. И греби деньги лопатой. Надо еще разрешить перезахоронение тех, кто уже раньше был похоронен здесь, тогда вам покойников до конца века хватит!» Мне захотелось влепить ему пощечину. Александра сказала потом: было бы много чести. Мы сразу же собрались и уехали. К приготовленным рождественским подаркам: коробка конфет для Александры, а для меня — симпатичный очешник — «югендстиль» — мы даже не притронулись. Маргарета, эдакая типичная училка, напоследок вдруг грубо сказала: «Не любите критики? Оскорбленных из себя строите? Да по мне, хоть сами ложитесь в могилу на своем кладбище. Миротворческое кладбище! От смеху лопнуть можно. Ведь на мертвецах наживаетесь».
Позднее Решке написал: «Не знаю, откуда у Александры берутся душевные силы, чтобы сохранять в таких случаях спокойствие и быстро приходить в отличное настроение. Когда мы, наконец, вернулись домой и, чокнувшись, пожелали друг другу счастья в Новом году, она попросила меня включить хорошую музыку. Пока я искал что-либо подходящее, Александра зажгла на еловых ветках две свечки и сказала: «А я понимаю твоих дочерей. Отчасти и Витольда. Они — совсем другое поколение. Им не довелось пережить того, что пережили мы, когда тебя выгоняют из дома на улицу в холод. Все у них есть, и ничего-то они не знают». Мне остается лишь гадать, какую музыку подобрал Решке. Наверняка что-нибудь классическое. В дневнике о музыке почти ничего не говорится. Не упоминается ни один из композиторов, даже Шопен. Впрочем, и о праздниках больше ничего не сказано, если не считать замечание о том, что погода была теплой, слишком теплой: «Опять Рождество без снега…»
***Когда по истечении первой январской недели наша пара вернулась в трехкомнатную квартиру на Хундегассе, зима все же взяла свое. Похолодало, выпал снег и не стаял, а остался лежать. Решке замечает: «Природа как бы извиняется за долгое бесснежье. На крышах старых домов — белые шапки. Ах, до чего я соскучился по скрипу снега, по отпечаткам подошв на снегу. Александре пришлось отказаться от своих туфелек на шпильках…»
Эта дневниковая запись достаточно оправдывает покупку «ужасно дорогих сапожек на меху» для Пентковской, себе Решке также купил теплую обувь. Снарядившись таким образом, они совершали прогулки к Леегским воротам или отправлялись вместе с Врубелем на старое Сальваторское кладбище на берегу Радауны, которое хотя и было ликвидировано, тем не менее его территория в полтора гектара вполне угадывалась даже под сугробами; вероятно, порою, когда занятость мешала Врубелю присоединиться к ним, они ходили вдвоем по левой стороне Большой аллеи к миротворческому кладбищу. Хорошо представляю их себе: она — кругленькая, в меховой шапке, он — в черном пальто свободного покроя; Решке идет, наклоняясь вперед, будто против ветра, хотя никакого ветра нет, зато морозно. Поскольку и на нем меховая шапка, возникает вопрос — обновка ли это, или же Александра достала ему шапку из старых пронафталиненных запасов?
Глядя на фотографии, можно строить догадки, выдвигать предположения. Пентковская и Решке не раз фотографировались на улице, на миротворческом кладбище, многие из фотоснимков — цветные.
Захоронения пришлось приостановить. Земля сильно промерзла, и копать ее было невозможно. При минус семнадцати не удавалось захоронить, как следует, даже урну. Решке пишет: «Хорошо побыть среди могил вдвоем. Удивительно, до чего быстро заполнились ряды. Холмик за холмиком. Весною будет занята вся правая верхняя четверть кладбища. Нижняя четверть, отведенная под урны, тоже будет заполнена. Хотя каждая могила оформляется по желанию семьи индивидуально, однако снег делает их однообразными. Впечатление однообразия усиливается скромными временными крестами, на которых значатся только имена и даты; все плотно укутано снегом — самшитовые бордюры, еловый лапник, которым на зиму прикрыты могилы. На урнах тоже белые шапки, которые рассмешили Александру. Впервые слышу, как она смеется, когда кругом снег. Она опять весела. «Смешные у вас горшки. На польских кладбищах таких нет. У нас все делается строго по католическому обряду». Позднее наше уединение было нарушено. Очень тепло одетая, к нам приплелась в своих валенках Эрна Бракуп, которая без остановки что-то бормотала..»
Я весьма признателен Решке за то, что, вернувшись с кладбища, он сразу же записал словоизлияния этой старой женщины, не пытаясь стилистически выправить ее бормотание.
«Видали по телевизору войну с арабами?» Эту фразу Эрна Бракуп выкрикнула вместо приветствия. Именно ее словами отмечено в дневнике начало войны в Персидском заливе. «От веку так повелось. Ежели те, кто наверху, не знают, что дальше делать, так затевают войну. Сперва-то я думала, что фейерверк показывают. Раньше в Домиников день завсегда фейерверки пускали. Потом уж скумекала: это они всех арабов перебить решили. А за что, спрашивается? Не люди они нешто, арабы-то? Может, они и сотворили что не так… Только ведь и всяк не без греха. Вот я и спрашиваю вас, господин профессор! Неужто на свете вовсе милосердия больше нету?..»
Не знаю, кто взялся объяснить старой, уже пережившей свой век женщине смысл войны в Персидском заливе, Решке или Пентковская. Прямого указания на сей счет дневник не дает. Замечание Решке о том, что Бракуп опять в курсе новейших событий — «Удивительно, до чего живо интересуется она происходящим вокруг…» — никак не характеризует его отношения к современной разрушительной технике, которая торжествовала на телеэкране свой триумф. Судя по дневнику, мнение Решке, как всегда, раздваивалось: с одной стороны, он оправдывал эту войну, а с другой — называл ее варварской бойней. Пока не истек срок ультиматума, его, главным образом, возмущали поставки немецкого оружия Ираку, причем это возмущение носило довольно общий характер — например, Решке именует боевые химические вещества «немецкой отравой», но одновременно пишет: «Похоже, люди сознательно стремятся истребить друг друга, чтобы на земле вообще никого не осталось…»
Решке сфотографировал Эрну Бракуп в снегу, а та сняла нашу пару между могильных холмиков, заснеженных урн и как бы обсыпанных сахарной пудрой кладбищенских лип. Все эти фотографии напоминают мне о январских морозах, январском солнце, белом снеге с голубыми тенями. Как выглядела наша пара на фоне зимнего пейзажа, уже известно; новой тут оказалась Эрна Бракуп.
В несколько слоев обмотанная платком, маленькая, уже ссохшаяся старушечья головка, из-под этого мотка выглядывают лишь узко посаженные глаза, покрасневший нос и впалый рот, который бормочет в кладбищенскую тишину: «Когда война кончится, будет там то же самое, что было тут, в Данциге. Кругом разруха. И мертвецов бессчетно…»