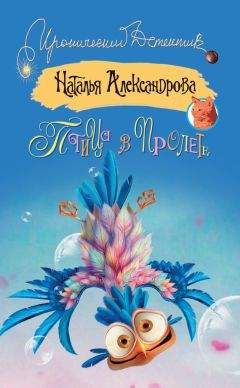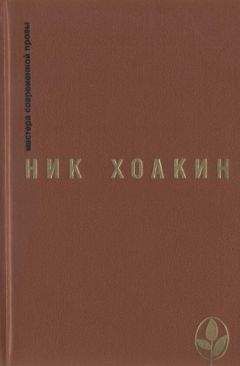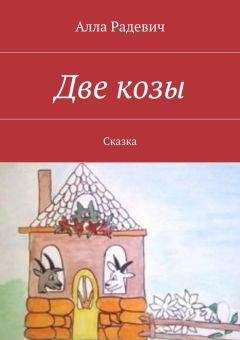Шеймас Дин - Чтение в темноте
Я онемел. Потом:
— А где вы тогда были? В то воскресенье? В день перестрелки?
Он подумал немного, обняв трость руками, уткнув в них подбородок.
— Где-где? Да кого там не было? Все-все, кому надо, были, все кому не лень плясали под чью-то дудку — кто мог, конечно, расслышать. Я тогда молодой был. Не такой еще сумасшедший, но к тому дело шло, к тому шло. Помолчали. — Так Мейв, говорят, замуж вышла? И за черненького? Хотел бы я увидеть личико ее папаши, когда он про это узнал!
И по-своему, отвлеченно, хихикнул.
— Едва ли вам удастся увидеть его личико, потому что он давно в Чикаго, — ответил я.
— Ничего, я до сих пор вижу его личико, не беспокойся. Четыре утра. Восьмое июля двадцать шестого года. Он, как тень, выскальзывает из полицейской машины. Сзади — двое. И за рулем наш любезный старый друг Берк. Макилени останавливается, чтоб поднять воротник, а я — я выхожу из подворотни, где прятался от дождя, я всматриваюсь и вижу, кто это, и я ухожу, я, как тень, ускользаю по улице, а он остается стоять под дождем.
— А что он там делал, в полиции?
— Вот именно — что он там делал? Доносил, доносил. Продавал своих за тридцать сребреников. Неужели не ясно! Он меня так и не видел. Но он вовремя смылся. Так и не видел потом никогда жену и дочь. Но кто, кто ему дал знать, что его видели? Точно сказать не могу, но кой-какие соображенья имеются. Удивительно, что полиция сочла нужным о нем позаботиться. Он им раз в жизни сгодился и больше понадобиться не мог.
Распростер руки, спел:
И перед смертью об одном
Душа моя грустит,
Что за меня в краю родном
Никто не отомстит.
И встал. Я ему подал трость.
— Я ухожу, — объявил он. — Когда снова тебя увижу, ты будешь намного старше. Но я останусь таким же, как был всегда.
Постучал себя пальцем по лбу, улыбнулся.
— Вечная юность. Секрет сумасшедших.
Отошел на шаг, оглянулся.
— Вот оно — наказанье: все помнить.
Он двинулся по тропе, напевая себе под нос, а я еще постоял минутку, разглядывая лепесток, непрочно устроившийся в траве, пока опять не подхватит ветром. Так вот что крылось за тем бегством в Чикаго? Джо опознал Макилени как полицейского осведомителя? Странно, но вот такие дела.
По-ирландски
Октябрь 1955 г
Мама не знала ирландского, хотя и калечила кой-какие обрывки стихов и песен. Во время своей болезни она как-то меня спросила, знаю ли я старые ирландские стихи, мы проходили их в школе? Но я очень мало знал. Вот одно такое есть стихотворение, она сказала, его женщина написала, там женщина горюет, она сделала страшную вещь, бросила того, кого любила, и там еще, она помнит, перед этим деревья в лесу гудят-звенят грустной музыкой и волны так уныло рокочут, что рвется сердце. Знаю я эти стихи? Женщину зовут Лиадан. Наверно, и песня есть такая. Я не знал. А почему она его бросила, я спросил. Мама не могла сказать, что-то там связано, кажется, с дорогой в рай.
Я решил ей сказать все, что я знаю. Но каждый раз — начну, и смелости не хватает. Главное было начать, через это перешагнуть. И — будь что будет. Может, она уши заткнет, заплачет. Или еще похуже. Мало ли. Но мне надо было сказать. Правда взбухала, нарывала во мне. Я уж думал сказать Лайему. Но как же, пока я ей не сказал? Потом, если она разрешит, я ему скажу. Я много раз подступался — но нет, не мог.
Я решил все записать в тетрадь, во-первых, чтоб уяснить для себя, ну и чтоб отрепетировать, определить, какие подробности оставить, что выкинуть. Но потом испугался: вдруг кто-то найдет и прочтет. И тогда с помощью словаря сделал перевод на ирландский. У меня это заняло больше недели. Затем я английский текст уничтожил, сжег на глазах у мамы, хоть она говорила, что я засоряю камин.
Несколько дней я выждал. Потом, вечером, когда папа был дома и читал Энциклопедию Пирса[16], свой, как он выражался, самоучитель, а я делал уроки, я взял и все ему по-ирландски прочел. Это нам в школе задали, я сказал, что-нибудь написать из местной истории. Он только кивал, улыбался, сказал, что у меня замечательно вышло. Мама внимательно слушала. Я понял: она догадалась. Папа похлопал меня по плечу, сказал, что ему приятно слышать у себя в доме этот язык. И пошел подметать двор. А я спиной чувствовал — она на меня смотрит. Она долго не шевелилась. Я смотрел на него в окно, он плескал водой из ведра, с силой взмахивал шваброй. Мама вздохнула, встала, подошла к лестнице. Он перестал подметать, стоял, опершись на швабру, уставясь в землю. Я знал — она на него тоже смотрит. Потом сказала что-то обрывистое, даже сердитое кажется. Я не расслышал: я плакал.
До нас дошли слухи, что оба сына сержанта Берка уехали в Мейнут учиться на священников. Хоть Берки больше плодиться не будут, сказал дядя Том. Не скажи, подхватил его брат Дэн, просто фамилию будут другую носить, и вся недолга. Мама очнулась от своего столбняка и взмолилась Господу, чтоб простил Дэна за эти его слова про священных особ. Все расхохотались. Такая уж семейка, подавай им черную форму, сказал еще кто-то. Нет, сказала мама, не смейте, не смейте мешать одно с другим. Это небо и земля, небо и земля.
Политическое воспитание
Ноябрь 1956 г
Мы во все глаза смотрели на лектора, священника в британской армейской форме, капеллана, гладкого, величавого, с величавым и гладким выговором, с красивым лицом, несколько подпорченным апоплексическими жилками, гостя нашей школы, которого нам представил президент и прислало Министерство просвещения. Как роскошно поправил он свою фуражку, пожал руки учителям, полистал бумажки, улыбнулся на наши неуверенные аплодисменты. Затем слегка склонил корпус, сложил молитвенно руки и — после изъявлений признательности президенту и иже с ним — начал речь.
— Если вы взглянете на бассейн Фойла с Байневены, почти четырехсотметровые склоны которой сбегают к обсиженным птицами отмелям реки Роу, — вы сможете оценить всю красоту и стратегическое значение того буйного края, где расположен ваш город. Город, который и сейчас контролирует восточное побережье Северной Атлантики, до сих пор является важным портом для судов великого флота НАТО, регулярно заходящих сюда во время учений, призванных подготовить западный мир к обороне от международной коммунистической угрозы. Эта угроза столь же ныне реальна, как была реальна некогда угроза подводного флота Германии, который, потерпев здесь поражение в конце войны, сейчас ржавеет на дне океана символом собственного позора и нашей решимости в защите свободы и демократии, той мощи и слаженности, с какими всегда мы будем мобилизовать все силы для поддержания демократической системы, под сенью которой нам выпало счастье жить. Покуда советские подлодки бороздят воды Северной Атлантики, покуда моряки разных стран стекаются в Дерри, вплетая свои краски в многоцветие города, вы вспоминаете знаки войны, которые видел ваш город: сотни немецких военнопленных, славных свидетелей роковых подводных атак, ряды захваченных немецких субмарин, сотни американских и британских боевых кораблей, большую американскую морскую базу, которая с сорок первого года стоит и поныне, вы вспоминаете, как немецкие самолеты бомбили город, но ему суждено было уцелеть и остаться вне их досягаемости, вы вспоминаете все, что свидетельствует о гордой и трудной роли, которую ваш город играл в той титанической битве. И вы снова призваны принять участие в сражении столь же драматическом, хоть менее видимом взгляду: вы должны сразиться с врагом, ничуть не менее реальным оттого, что он невидим. Эта битва ведется за сердца и души людей; битва безверия против веры; битва подлости и злобы против человеческой свободы; битва холодного атеизма против доброго огня христианской веры, с давних пор горящего в ирландских сердцах. Нет, не для них, не для такого народа запертые храмы, колючая проволока лагерей, экспроприация земли военизированным и неверующим государством — горькие плоды безбожного ученья. Атеизм — это вызов не только разуму нашему, но и нашим инстинктам. Долго он не продержится. Никогда ирландцы не изберут этого зла, ибо ирландцы верят, они истинно доверяются своим глубоким инстинктам. Так же как и сожители их на этих островах, они отринут лишние и ненужные местные дрязги, все преходящие разногласия и устремят свои взоры к благородным высотам, к лучезарным вершинам свободы, подобным ребристым склонам Байневены и широкому плато, уходящему прочь от оспариваемых вод к надежности наших городов и селений. Наши внутренние распри — не более как семейные ссоры; перед лицом внешнего врага христианская семья должна сплотиться, воспрянуть и отстоять себя так же, как все члены пестрой семьи ирландской веками отстаивали свои основные свободы. Много есть свидетелей этому стремлению ирландцев защищать свои свободы — начиная от самих городских стен и до древней крепости Грианан, глядящей на уединенный монастырь Коламбы, подаривший острову христианство. С такой историей, с таким народом, славным своей верностью союзникам, своим великодушием к врагам, мы можем смело глядеть в будущее, сознавая, что дальний рокот Атлантики столь же от нас неотторжим, как улицы, которые мы топчем, памятники, которые мы сберегаем, как чувства, которые мы питаем. Я знаю: то, что сделал ваш город в войне, ныне ушедшей в прошлое, он сделает снова в той войне, которая уже началась и в которой нам надлежит победить. Это тяжелая ответственность. Но с чувством гордости и счастья я сознаю, что ответственность эта ложится на людей того города, о котором я впервые узнал во время войны в военно-воздушном училище Марги и который с тех пор часто посещаю. Здесь, где с презрением отвергают поветрия капризной моды, где верны традициям, преданы постоянству, особенно чувствуется соотношение между людскими разногласиями и вечными ценностями. Без прочного ощущения целостности, преемственности люди немногим отличаются от летних мух. С ним, с нашим драгоценным чувством наследия, мы становимся действующими лицами великой драмы, повести, что оканчивается за пределами нашего мира, в той жизни, для которой наш дольний мир служит лишь огромным и славным приготовлением. Бог — вот цель нашей истории; наша история есть обетование — смиренное, дерзостное, рыцарственное и скромное. Приветствую вас всех.