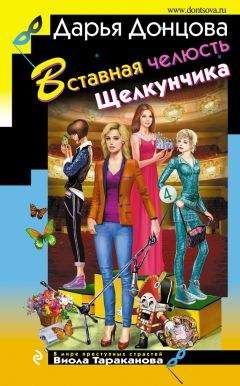Войцех Кучок - Царица печали
— Вон доктора с Кракова удивляются, как это я могла еще кажный день гевонты[6] без фильтра курыть, а я им говорю: господа, как тут «бросить курыть», коли уж в древни времена горцы говаривали, что все дороги ведуть в дым…
Толстый не хотел, чтобы я шел за ним в поле, потому что тогда в поле моего зрения попадала его супружеская практика, а дело было вот в чем: с тринадцатого года жизни Юзусь страдал постоянным спазмом члена; тогда ему случилось поднять взгляд на декольте наклонившейся над тетрадкой учительницы польского, недовольной его орфографией, и ощутить первый подъем, который с тех пор продолжался непрерывно. Врачи прописали лечение бромом, но Толстый сказал, что ничего у него от брома не мягчает, разве только мозги. Потом, когда весть разнеслась среди девчат, он свыкся с таким положением дел. В молодости Толстый Юзусь вовсю пользовался своей славой, от Витова до Дзяниш, от Хохолова до Яблонки, от танцплощадки до танцплощадки, посещая их в особо скроенных портках, служивших ему визитной карточкой. И перестал, только когда в Зубовицах получил по зубам и парни, наподдав ему как следует, прогнали его по деревне без штанов, а ему не хватало ладоней прикрыться, ибо даже стыд не умалял его твердости. Он перестал ходить в костел (как молиться Пресвятейшей, если погоняло торчит?) и не ходил туда до тех пор, пока приходский священник не отпустил сей грех, сказав при этом:
— Пути Господни неисповедимы, а тебе, сын мой, Господь положил тяжкий путь за грех наш первородный и грехи отцов наших…
Отпустил, стало быть, грех и велел жениться как можно скорее, заметив, что истинную любовь Бог детьми благословляет; а Толстый и поверил, что наконец, если Бог даст засеять законную, от него отлегнет, и принялся искать жену — от Хохолова до Черного Дунайца, от Костелиска до Шафляр — и наконец нашел девицу дородную и выходил с ней первые поцелуи в Старой Роботе. И только после этого, перед сватовством, в соответствии с церковными правилами, чтобы венчание считалось законным, ему пришлось признаться ей в своем недуге. Признался и услышал в ответ:
— Облегчу тебе душу или укорочу тебе тушу.
Вот так и стала она Юзусевой женой.
Поля и жену он обрабатывал практически одновременно, но пока родила только земля. Чистокровная овчарка Харнась, вместо того чтобы сторожить отару, охраняла их ласки, потому что было много охочих среди окрестной ребятни, да и среди неженатых парней, пройти курс молодожена в качестве зрителей. Толстый Юзусь с женой так зарывались в пшеничной постели на своем законном гектарчике, что их не видать было даже с деревьев, на ветвях которых, внезапно облаянные Харнасем, завершали свое бегство от подгальского цербера незваные зрители.
Пустив меня под крышу свою на каникулы, Юзусь должен был быть уверенным, что сможет отвлечь мое внимание, что я ослепну от сверкания граней бытия, что сны меня сморят, что я буду настолько отсутствовать, чтобы ни со слуха, ни с вида чего непотребного не набраться, что ни замочная скважина, ни окно в их покои спальные во искушение меня не введут. Тем же самым первым утром, когда Юзусь решил, что в работу я не гожусь, повел он меня под забор своих кумовьев и пальцем указательным задал новый ритм моему сердцу, пальцем приговорил меня к девчоночке, слепленной изо всех моих любовных предвкушений, по сусеку босой ногой ступавшей, по соседству проживавшей, к Марыльке, дочке Бахледы-Семиота, что перегонял отары с пастбища на пастбище где-то под Воловцем.
— Глянь-ко… — сказал Юзусь совершенно излишне, потому что я уже прильнул к забору, воткнув готовый быть утертым нос между досок, — и шуруй, — добавил, уходя, уже уверенный в успехе, видя, под какой гипноз я попал, и твердо зная, что теперь не стану путаться у него под ногами, что теперь с него только харчи и стирка, потому что дни и ночи, во сне и наяву с Марылькой буду пасти коров, ибо нет щенка более спокойного, чем влюбленный щенок. Первые два дня я простоял в укрытии, любуясь ее девичьей расторопностью, глядя, как она наклоняется над колодцем, как хлопочет по хозяйству, а я выходил из укрытия, искал новые наблюдательные пункты, чтобы еще и еще раз убедиться, что нижнее белье было для нее излишней роскошью. Я высматривал на ее коленках и локтях старые шрамы, следы падений во время игры в классики или лазания через сухостой; о да, вместо отмеченного шармом белья она носила отмеченные белизной шрамы детства, впрочем прекрасно сшитые, что напоминало о ее таком недавнем игривом прошлом, слишком рано придавленном избытком взрослых обязанностей; я был очарован ее шрамами и полюбил их царицу — чудесную ссадинку на лбу, которую она, видать, когда-то выпрыгала себе, если только не детская оспа так ее клюнула, что оставила след на всю жизнь.
— Шуруй! — почувствовал я на третий день Юзусеву лапищу, мощным шлепком вырвавшую меня из оцепенения и подтолкнувшую к активности. — Стоишь и стоишь у забора, уж и Харнась обосцал тебе два раза, пошел!
Выпихнул меня за калитку и крикнул:
— Марысь, возьми-кось научи этого городского доить!
И пошел, гогоча, с косой через плечо, за женой, а я, оказавшийся на середине двора, онемевший, столкнулся с ней лицом к лицу. Она ничуть не удивилась, кивнула, чтобы шел за ней, ну я и пошел.
Встал в дверях, смущенный, делая вид, что заинтересовался надписью: «Добро пожаловать» (нацарапано рукой мирянина), «К + М + В[7] 19…4» (начертано рукой клирика; одна цифирька стерлась, и неизвестно, прошлогоднее колядование здесь увековечено или это прадавний след богоугодного гостеприимства), — я стоял в дверях, не смея зайти внутрь, всматривался в надписи, как в иероглифы, вчитывался, чтобы оттянуть момент пересечения порога жилища, поскольку не в конюшню Марылькины ноги направились, но вглубь дома, в кухонную духоту, в задушевность домашних запахов. Я стоял, по-городскому размышляя об обуви, размышляя о том, что к ходьбе босиком, к травам и гумнам привычные Марылькины ноги не источают зловония, что, запанибрата с землей, они землею и пахнут, в росе омываются, а я свои ноги, постоянно обутые, да в школьных, костельных и домашних передрягах, во время классных собраний, во время исповеди, во время взбучек, в сандалиях, в ботинках, в тапках потом истекающие, всегда с подветренной стороны должен держать.
Были такие деревни на Подгалье, в которых обувь надевали только к первому снегу. Босые ступни жителей за летние месяцы роговели и обрастали жестким котурном, вбиравшим в себя камешки, щепочки, листья, становившиеся буквами историографии пройденных дорог; осенью, когда первый иней белил траву, целыми семьями приступали к горскому педикюру: газда[8] садился с ножом у ведра и, с детей начиная, всем срезал мозольные подошвы. Редко когда выхаживали босиком до Святого Анджея, поэтому гадали на будущее по сокровищам, втоптанным, впечатанным в подошву, а потом и соскобленным с подошвы. Если, кроме крошек гравия и лесных заноз, денежка к ступне прилипала, — значит, жить семье в достатке.
Слышал я и об укрытом где-то в стройном ельнике поселении, основанном заблудившимися браконьерами, которым не хватило сил найти обратный путь, и если снег в Татрах обычно начинал таять в мае, чтобы уже в августе радостно встретиться с заморозками, то в том селе солнце редко добиралось до гребней крыш, мороз стелился тенью круглый год, а когда в этой промороженной околице черт желал «спокойной ночи», у него из пасти вместо серы шел пар; там мороз даже коней подковывал льдом, поэтому каждая живая душа — человечья, собачья, конская или какая другая копытная — имела онучи и обувку.
— Айда в хату! — наконец услыхал я испуганный Марылькин голос и счел это уважительным предлогом, чтобы войти в дом в ботинках, хоть и заметил в сенях скромный рядок обуви. Пошел на кухню, доски заскрипели у меня под ногами. Я прирос к полу, а под ним заливались половодьем плача бесстыжие всхлипывания бедности, такой глухой, что хоть ухо оторви, такой беспросветной, что хоть глаз выколи. Понял я тогда, что придется мне бедность полюбить, что все ее следы точно родинки на молодой Марылькиной коже, что Нищета, эта примета подтатринская, от стерпевшейся и слюбившейся бедности появилась, ибо в любви все мы равны и нет на свете большего богатства, чем обладать друг другом.
Марылька справлялась сама, советов не от кого было слушать: отец в лохмотьях вместе с горным ветром гнал овец, мать померла от родовой горячки. Старый Семиот в деревню заходил не чаще, чем эпидемия, поэтому шли по деревням слухи о том, что питается он живицей словно медом и после может месяцами выдержать на одном только овечьем сыре, что покрыт он не волосами, а шерстью и что весь он уже омедведился, да и жив ли вообще, неизвестно, потому как спасатели пристрелили весной медведя в Мендзыстянах (кто-то из местных свадебку играл, дичью хотел деревню угостить, но сотрапезники замерли над тарелками, когда старый войт, который еще сибирский голод помнил, после первого куска прокаркал: «Не замай ентого, енто чоловичина!»).