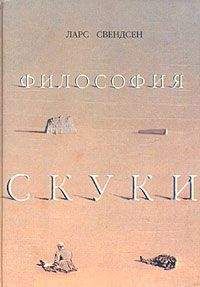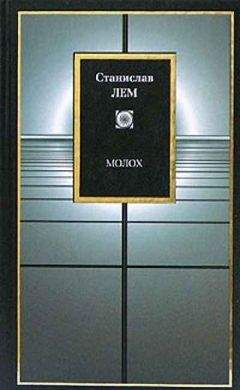Марк Фрейдкин - Опыты
Надо сказать, что хотя браку Меера и Рахили не предшествовало абсолютно никакого романа (они были сосватаны даже без предварительного знакомства и впервые увиделись только под венцом, если такое выражение применимо к обряду еврейского бракосочетания), они нежно и преданно любили друг друга всю жизнь. В письмах и рассказах родственников и их детей эта парочка неизменно фигурировала как «Ромео и Джульетта» или «старосветские помещики». У них было трое детей: Люба, Ася и Лев.
Люба, единственная из троих, жива до сих пор. Окончив перед самой войной театроведческий факультет ГИТИСа, она стала довольно известным театральным критиком, автором многочисленных трудов и статей по истории театра, в том числе капитальной работы «Дни и годы Немировича-Данченко», вышедшей отдельной книгой и даже утвержденной, кажется, в свое время в качестве учебного пособия для театральных вузов. Вне всякого сомнения, эта книга моей двоюродной тетки представляет собой серьезное, основательное и добросовестное исследование, но для неспециалиста, каковым является и ее почтительный племянник, она совершенно нечитабельна. У Любы есть сын Алик и внучка Марина. Все они живут в Москве.
Ася также окончила ГИТИС, но уже после войны и проработала всю жизнь в культурно-просветительских учреждениях («ученье — свет, а неученье — культпросвет», как она любила выражаться). Она никогда не была замужем, будучи в молодости, по ее собственным словам, чересчур разборчивой невестой, и детей у нее не было. Ранней весной 1989 года Ася умерла. Урна с ее прахом покоится в той же могиле на окраине Востряковского кладбища, где зарыт прах моего деда Давида, моей матери, моего отца и где, во всей видимости, в свое время (как выражались раньше в местечках: через сто двадцать лет) предстоит оказаться и скромному праху автора этих строк.
Младший, Лев, погиб на фронте, так же как и муж Любы — Ефим Торбочкин.
С приходом Советской власти в Прилуки Мееру, натурально, пришлось расстаться со своей галантерейной лавочкой, причем, по слухам, не последнюю роль в процессе ее отчуждения сыграл Зейдл Гензелев, младший брат Гинеси и первый прилукский комиссар. Меер с Рахилью и детьми переехали в дом к тестю.
Иехиель Свердлов, подобно своему знаменитому однофамильцу (а быть может — чем черт не шутит? — и родственнику), был человеком с государственным складом мышления. На вечерних чаепитиях в его доме собирались лучшие умы местечка и всесторонне трактовали сложную политическую ситуацию тех лихих лет. На одном из таких обсуждений Иехиель, по словам Любы, незадолго до булгаковского Филиппа Филипповича высказал не лишенное здравого смысла предположение о том, что большевикам на руку разруха, чтобы всегда иметь повод для террора.
Разумеется, в этих политических диспутах с интересом прислушивались и к мнениям начитанного зятя хозяина. Но эта идиллия в доме богатого тестя — с прислугой, серебряными подсвечниками, книжными занятиями, умными разговорами и тихими семейными радостями — продолжалась недолго. Как гром среди ясного неба, грянуло решение Советского правительства «посадить евреев на землю», и Мееру с семьей пришлось поехать в Крым (см. известное стихотворение В.Маяковского).
В Крыму их поселили, как вы легко можете себе представить, не в Ливадии, а в самом центре этого благословенного полуострова — в районе маленькой железнодорожной станции Сейтлер. Там Мееру пришлось оставить книги и молитвы и трудами рук своих на голом месте в безводной степи создавать относительное материальное благополучие для своей семьи.
Увлечение Толстым оказалось не напрасным — книжник и интеллигент сумел стать неплохим земледельцем. Это явствует хотя бы из того, что к 1929 году Меер уже имел хозяйство достаточное, чтобы быть признанным кулаком и, естественно, раскулаченным. Во второй раз лишившись всего, что имел, и чудом избежав еще более суровой участи, он с семьей перебрался в Феодосию, где по старой памяти устроился работать продавцом в галантерейный магазин. Дети вскоре разъехались учиться в большие города, и Меер с Рахилью остались в Феодосии одни.
Когда в 1941 году немцы вошли в город, они согнали всех местных евреев в здание синагоги и перед расстрелом продержали их там запертыми несколько недель. Рассказывают (хотя непонятно, как это могло стать известным), что Меер все время пел в синагоге в эти последние дни.
8. ПЕЙСАХ ФРЕЙДКИН (МЛАДШИЙ) И БАСЯ ЛИВШИЦ. ИХ ДЕТИ
Второго сына Гесл-Лейба Фрейдкина и Гинеси Гензелевой назвали Пейсахом, очевидно, в честь знаменитого прадеда. В отличие от своего старшего брата, Пейсах был жгучим брюнетом с черными курчавыми волосами и карими глазами. От старшего брата его отличала и гораздо меньшая склонность к книжным занятиям и изящным искусствам. Правда, петь он тоже любил и постоянно что-то мурлыкал себе под нос.
Он женился очень рано (чуть ли не раньше Меера) на своей двоюродной сестре Басе Лившиц, дочери Бинемина Лившица и Хаси Фрейдкиной. И надо сказать, что Бася Лившиц с лихвой восполняла отсутствие у ее мужа тяги к книгам. Вообще старшие Лившицы были, как правило, не очень образованными людьми и, в отличие от большинства Фрейдкиных, не имели особой охоты к абстрактным знаниям и гуманитарным наукам, хотя им и нельзя было отказать в природном уме, все способности которого они преимущественно направляли на изыскание путей и средств к достижению материального благополучия. Исключение составляла Бася. Будучи отнюдь не равнодушной к меркантильной стороне жизни, а также весьма практичной и даже скуповатой в быту, она тем не менее страстно любила читать и проводила за книгами целые дни, предоставив Пейсаху самому управляться с домашним хозяйством, что было не очень типично для еврейских семей того времени и вызывало многочисленные нарекания родни.
В истории их брака имела место одна отчасти романтическая деталь: когда Бася училась в гимназии, у нее была закадычная подруга — Ревекка Резникова. Они очень дорожили своей девичьей дружбой и мечтали, чтобы сохранить ее и в дальнейшем, после окончания гимназии выйти замуж за двух братьев. И волею судеб так и произошло. Ревекка Резникова, правда с опозданием на семь лет, вышла замуж за родного брата Пейсаха — моего деда Соломона. Но, к сожалению, за эти семь лет Бася и Ревекка успели стать родственницами и, как это часто бывает в таких случаях, перестали быть подругами. И более того, Бася к тому времени уже всячески препятствовала браку Ревекки и Соломона.
До начала первой мировой войны Пейсах и Бася жили в Красной горе и нажили за четыре года двоих сыновей — Лейбу и Гирша. Но когда над Пейсахом нависла угроза мобилизации, он, оставив семью на попечение Гинеси и ее второго мужа Гирша Мовшевича Резникова, бежал в Америку. Там, судя по всему, он повидал мало хорошего. Он за короткое время перепробовал множество занятий и профессий, был даже чернорабочим на одном из заводов Форда. Словом, пристроиться в Америке ему не удалось, и незадолго до революции он вернулся к семье в Красную гору и за несколько лет произвел на свет еще двух детей — дочь Хасю и сына Евеля.
В родном местечке Пейсах занялся чем-то вроде изготовления мельничных жерновов и, кажется, неплохо этим кормился, а при Советской власти работал продавцом в государственном магазине. Так в Красной горе он и прожил безвыездно вплоть до 1941 года, когда он вместе с Басей эвакуировался в Челябинск к своим детям Гиршу и Хасе, которые к тому времени уже обосновались там. Причем уходил он из Красной горы в такой спешке, что, будучи счастливым обладателем лошадей и подводы, совершенно позабыл предложить помощь своей парализованной матери, Гинесе, и младшему брату Соломону (чего Ида Соломоновна Фрейдкина, старшая дочь Соломона, не может простить Пейсаху до сих пор), о трагической эвакуационной судьбе которых читатель узнает в свой черед.
После войны Пейсах и Бася решили не возвращаться на родину и прожили в Челябинске до самой своей смерти, причем Бася надолго пережила своего мужа и двоюродного брата.
Хотя до начала 30-х годов Пейсах и жил в Красной горе бок о бок с остальными Фрейдкиными, но в результате ссоры его жены с Гинесей, Соломоном и со всеми Резниковыми из-за брака Ревекки Резниковой и Соломона, которого Бася, забыв о юношеских обетах, хотела женить на своей младшей сестре, красавице Рисе — а может быть, и в силу еще каких-то причин, — семья Пейсаха оставалась как бы немного в стороне от всех родных. По крайней мере, мой отец, его старшая сестра Ида, благодаря замечательной памяти которой во многом стала возможной моя хроника, и другие родственники рассказывали о нем очень скупо, неохотно и недоброжелательно, хотя, на мой взгляд, эта недоброжелательность больше относится к Басе, чем к нему самому. Бася же, как я понимаю, была женщиной умной, властной, самолюбивой и крепко держала мужа в руках.