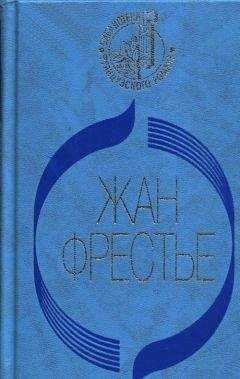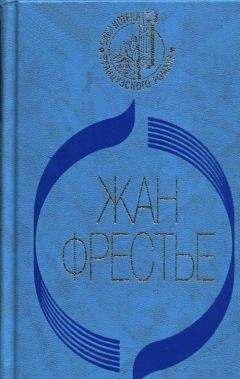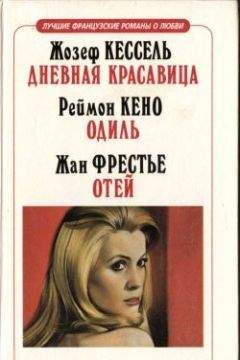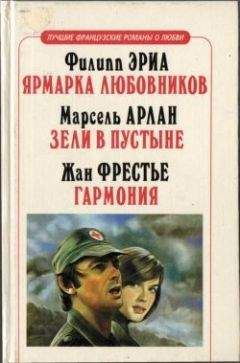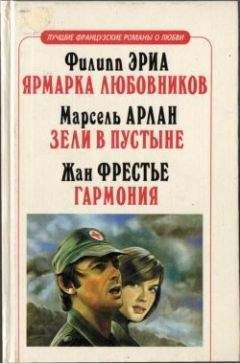Жан Фрестье - Выдавать только по рецепту. Отей. Изабель
Эта стратегия занимала мое время. Когда она утомляла меня, я лечился для развлечения. Я каждый раз пользовал свою рану разными снадобьями. Ничто не помогало; она беспрестанно увеличивалась; она нашла благодатную почву. Она обнажила мое колено, перешла на ногу. Я стал худеть. Чем больше распухала моя больная нога, тем сильнее худела вторая. Можно было подумать, будто все мое существо сконцентрировалось в одном члене, что я теперь жил лишь для того, чтобы питать эту затекшую, крестьянскую ногу с толстыми связками.
На эту ногу у меня уже была аллергия; но в то же время я испытывал некоторое удовлетворение от того, что могу сознательно ненавидеть часть своего тела. В конце концов это Моя нога! У меня такая нога, какой я заслуживаю. Чтобы лучше ее видеть, я укладывал ее на подушки, когда лежал.
Над кроватью я повесил на веревочках терракотовые пористые сосуды, мои запасы питьевой воды. Кувшины раскачивались в воздухе; они были покрыты испариной; на лицо мне шлепалась капля. Я думал о зимних дождях в Мсаллахе, дождях, которые встретили Генриетту прошлой зимой. Я вспоминал море, осенние дожди, вечно мокрую рощицу, через которую Сюзанна шла ко мне в комнату. Когда ко мне приходили подобные мысли, я корчился на постели. Раскаяние хватало меня за самое нутро, с такой силой, что я стонал, как роженица. Сюзанна, Генриетта, Клэр — сестры-близнецы. Я обеими руками держался за живот. Воспоминания не проходили. Моя память, сведенная судорогой на воспоминаниях, удерживала их. Я обращался к шприцу. Меня отпускало на час. В течение часа мои мысли свободно текли, настоящее текло к настоящему. Иногда это продолжалось меньше часа.
Я беспрестанно увеличивал дозы.
Однажды я их удвоил.
Тогда я начал постоянно дремать. Желание спать тянуло меня назад за волосы и за плечи. По правде говоря, я никогда не спал глубоко. Хотя я и предавался сну, я уносил в свою легкую дрему те же заботы, что заполняли мое бодрствование. Проснувшись, я оставлял при себе суть своих снов. Так что разница между состоянием сна и состоянием бодрствования была для меня мало заметна. Я перетекал из одного в другое. Так что я никогда не знал покоя.
Я приказал принести к себе в комнату большой чан с водой и садился в него несколько раз в день, покрыв голову мокрым полотенцем. Я дремал в своем чане; мне снилось, что я тону, или же снилось, что Генриетта садится в чан напротив меня и мы под водой вкалываем себе морфий.
Ах! Если бы у меня была Генриетта!
Одно время моя тоска вертелась вокруг нее. Мне была нужна именно Генриетта. Как же я не понимал этого раньше! Месяцами я упорно выбирал дороги, ведущие в тупик. Только Генриетта могла бы меня спасти. Как неизлечимый больной, отвергая официальную медицину, возлагает все свои надежды на знахарей, так и я несколько дней цеплялся за мысль о Генриетте. Я даже стал мнительным: вовсе не случай, а судьба вызвала из глубин памяти воспоминание о Генриетте. Я провел один вечер, сочиняя ей письмо. Она была где-то под Ораном, где формировался экспедиционный корпус в Италию.
Неделю я ждал ответа. Он не пришел. Я устал. Написал Сюзанне, но без надежды, просто из системы. Сюзанна тоже не ответила. Решительно ни одна женщина не хотела меня спасать. Мне приходилось спасаться самому, и радости я от этого не испытывал.
На моем столе два письма Клэр, на которые я не ответил. Клэр не могла меня спасти. Она любила меня. У нас были разные вкусы. Я себя не любил. Я не распечатал письма Клэр. Я не любил Клэр. Иногда я думал, что люблю Сюзанну, а иногда — что Генриетту. Но я никого не любил. Я мечтал об искуплении любовью; как мнимые верующие, забывающие о Боге ради святых, я молился то Генриетте, то Сюзанне, но веры у меня не было.
Больше месяца я не выходил из комнаты. Иногда я открывал ту дверь, которая выходила на санчасть. Десять коек в большой палате были пусты, хорошо заправлены, покрыты белым. Солнце выделяло между ними большие пустые пространства. Я был единственным больным. Для перемены обстановки я ложился на больничную койку. В очередной раз разматывал бинт на колене. Ну и рана!
В сентябре ночи слегка посвежели. В октябре небо стало бледно-голубого цвета, словно пыль голубоватого оттенка.
Я собирался начать выходить. Моя рана стабилизировалась. Конечно, она не заживала. Но в конце концов и не увеличивалась. Я надел на ноги простые подошвы на ремешке. Дотащился до столовой. Комендант выразил удивление: «Нашему больному лучше?»
Я показал ему свою раздутую ногу. Он живо отвернулся, прижав к губам платок. Я понял, что поступил нетактично.
Еще я понял, что говорили, должно быть, обо мне, и говорили много, поскольку теперь, когда я, хромая, явился в столовую, разговор прекратился.
Я поздоровался. Сел на краю стола. Тихонько подтащил к своему краю хлеб и графин. Не сводя с меня глаз, комендант смаковал вермут из личных запасов. Затем стал хлестать по столу своим стеком.
— Ну, доктор, как ваша хворь?
Эта фраза звучала каждый день, став таким же ритуалом, как чтение меню, в котором меня подменил один из лейтенантов. Только по воскресеньям наступало некоторое разнообразие. В этот день мы получали право на вермут. Необычное количество наград на груди коменданта объявляло о воскресенье. Наряженный по-воскресному, он наливал в наши стаканы на палец вермута и провозглашал тост за меня.
— За кавалерию, — говорил он, — и за выздоровление доктора.
Потом, однажды в воскресенье, мне не досталось вермута. Эта честь коснулась только стаканов лейтенантов. Мой остался пуст. Я понял, что злоупотребил доверием, что больше не стоит рассчитывать на снисхождение. Наверное, все удивлялись тому, что я не смог вылечить свою рану. Думали, что у меня плохая болезнь, а я — слишком плохой врач, чтобы ее излечить. Во всяком случае, не пристало числиться одновременно врачом и больным. Не сегодня-завтра мне велят выбирать одно из двух.
Самому мне выбрать было трудно.
Иногда в дверь ко мне стучал туземец и просил хинина или вырвать себе зуб. Тогда я становился врачом. Я раздевал этого человека, тщательно его осматривал, набивал ему карманы лекарствами. Но как только он уходил, я снова заболевал. Я снова разматывал повязку. Восторгался, покачивая головой: «Ну и ну, вот так рана!»
Рана сосредоточила в себе все мои опасения. Она олицетворяла собой Зло. Она создавала вокруг меня пустоту. Не придется ли мне однажды входить в столовую, помахивая трещоткой, как прокаженному?
Отныне я мог целыми днями бродить между деревней и фортом и вокруг деревни, не встретив ни одной живой души. Иногда я выходил утром. Шел по главной дороге. Деревня вдруг заканчивалась. За ней не было больше ничего. Я прихрамывал, скрипел песком под подошвами. Когда я останавливался, то не слышал больше ничего, только легкий свист у самой земли, когда был ветер, а когда ветра не было — стук собственного сердца в ушах. Какое-то время я пересыпал песок. Потом возвращался в обход. Я шел навестить штрафников на гауптвахте. Там всегда было три-четыре человека, сидящих прямо на солнце, в голом дворе, обозначенном веревками. Часовой, в тени под стеной форта, позволял мне подойти. Арестанты смеялись, выглядели счастливыми. Характерным жестом согнутой в локте руки они давали мне поручения, носившие одновременно сексуальный характер и оскорбительные по отношению к коменданту. Смеясь, я обещал их исполнить. Но, как только поворачивался спиной, испытывал угрызения совести. Снова я пренебрег служебным долгом. Мне бы надо было возражать, возмущаться. А я смеялся; и вспоминая это, я все еще смеялся: «Комендант! Нет, в самом деле, как смешно!» Затем я возвращался в форт, к новому флагу на новом небе, стенам в виде зубьев пилы, запаху конских яблок и кожи. Я входил в санчасть под флагом с красным крестом. Десять коек были пусты. Я оставался единственным больным.
Однако появился и второй. Мне принесли его одним октябрьским вечером на подобии носилок из пальмовых листьев. Он поступил из деревни, расположенной в пятидесяти километрах к югу. Носильщики-туземцы (братья больного) легли спать перед дверью санчасти. Они провели там целую неделю, в течение которой я дежурил у постели больного день и ночь. Я больше не был один. Ночью я оставлял свою дверь приоткрытой. Я слышал, как стонет мой товарищ. Каждые два часа, вставая ради себя, я вставал и для него. Он был рад меня видеть, я тоже.
Он лежал, скорчившись под белыми простынями, сухой и коричневый, словно личинка. Он получил заряд дроби прямо в живот. Я оперировал его в первый же день. Несмотря на это, он стал худеть, съеживаться, так что под конец уже касался коленями бороды, которую носил под подбородком на берберский лад. Но я же не хирург в конце концов! Я уже не знал, что и делать. В последнюю ночь я взял его за руку, длинную черную руку с выпуклыми ногтями. Это словно успокоило его; но поутру он стал плевать в меня, порывался меня исцарапать. Я попятился. Наверное, он хотел умереть один. Я ждал, пока это кончится. Потом вышел. Зашагал к деревне. На этот раз ветер дул с севера. Погода была хорошая. Я вошел в бакалейную лавку выпить стакан лимонада. Там я задержался. Я увидел, как мимо двери прошли братья умершего; они возвращались в свою деревню, один из них нес на плече носилки.