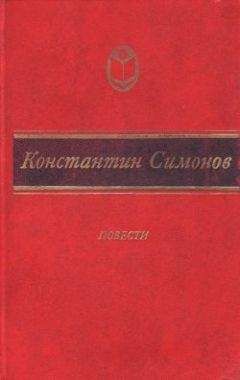Виктор Коклюшкин - Убойная реприза
– Выше голову, мальчики!
– Закусывать надо! – буркнул режиссер. И добавил громко и ласково: – Всего доброго!
«Тойота» умчалась резво, будто кто ее подхлестнул, а мы…
В детстве я отправлял себе поздравительные открытки с главного почтамта. В нашу квартиру почтальон приносил разве что повестки и мои открытки. Где старательным ученическим почерком я поздравлял себя с Новым годом, с Первым мая, Днем Парижской коммуны. Соседка – хулиганка и матерщинница, белела от злости; не хулиганка косилась как не заразного… мужики-выпивохи гордились! Я каким-то странным образом этими открытками приближал их к высшему, недоступному миру, где читают стихи, ходят в театры и целуют женщинам руки.
Детство уже тем хорошо, что старость – далеко.
В детстве я много читал. Сначала ходил в детскую библиотеку, она была в Большевистском переулке, в одноэтажном желтом доме, напротив серого, с рыцарем над подъездом; потом во взрослую – на Сретенском бульваре.
Мы шли с Икс Игрековичем по Сретенскому бульвару.
– Понимаете, она говорит, что меня любит, – растерянно и виновато признавался он.
– Ну, а вы-то сами?
– Не знаю… – искренне сказал Икс Игрекович.
Мы сели на лавочку, бульвар был пуст. Впрочем, Сретенский всегда был малолюднее Чистопрудного. Почему-то по вечерам отсюда тянуло уйти.
– Я жил спокойной… относительно спокойной жизнью, а теперь… Отказаться – а может быть, это последняя, ниспосланная мне Богом любовь? – Волнуясь, он стал говорить театрально, так ему, видимо, было сподручнее выражать свои чувства. – Я перестал ориентироваться в жизни: что мне надо и от чего следует бежать. Меня преследует пушкинское: «И может быть, на мой закат печальный мелькнет любовь улыбкою прощальной». Понимаете, мелькнула, а я – не знаю, что делать?
– А жена?
– Помилуйте, дорогой! Мы – с мамой…
– Сколько же ей?
– Восемьдесят девять!
– Люди жаждут любви, я вы противитесь…
– А если она… – он не хотел, стеснялся произнести. – А если она…
– Обманывает? – помог я. – Реально и такое. Но лакомая ли вы добыча? Кстати, я думал, вы женаты.
– Жена в Америке, уехала туда к сыну.
– А вы?
– А кому я там нужен?! И потом – мама, тащить ее через океан?
– А маме она не нравится, – понял я. – Значит, она была у вас дома?
– Ну, конечно!
Человек, долгие годы учивший других психологическому оправданию существования на сцене, смотрел на меня беспомощно и с надеждой.
– Ну, вы сначала разберитесь: любите ли вы? Нужна ли она вам?
– Кажется, да, ну… как бы это сказать?
– Боитесь, что птичка улетит, а на подоконник сядет ворона?
– Да.
– А любит ли она вас действительно?
– Говорит, что «да», но… мама не верит.
– Но она красивая?
– Очень! – быстро сказал Икс Игрекович.
– Вам с ней хорошо?
– Хорошо, но как-то так… как-то тревожно, что ли?
– Ее родители вас знают?
– Нет, нет, Боже упаси!
– Ну, а плюнуть на все и жить вместе?
– Испортить маме последние годы? Как это – по квартире будет ходить незнакомый человек?..
– Но жена до этого ходила… третья.
– Мы с женой… третьей, прожили двадцать шесть лет, и она бы не уехала, но надо помогать сыну… там.
Да, могут любимые женщины отравить человеку жизнь! Помню, в армии, перед дембелем, все в ожидании свободы, в предвкушении, а Лукин – здоровенный сибиряк, тракторист, комбайнер, все грустнее с каждым днем, все мрачнее. Поделился со мной. «Сажусь, – говорит, – за стол – жена свою тарелку ставит, мать – свою. Съем из материной – жена обижается, съем из жениной – мать. Хоть в армии три года отдохнул, а скоро опять…» «Образумятся, утрясется…» – попытался успокоить я. «Нет, – сказал он, – я, когда в отпуск ездил, то же самое было».
– Но я что-нибудь придумаю, – заверил Икс Игрекович, – что-нибудь…
В доме «России» горели немногие окна.
Если обойти справа – в переулке была наша детская поликлиника…
– Там, справа – переулок Милютинский, раньше назывался: улица Мархлевского.
– Ну и что? – не понял Икс Игрекович.
– Дядька мой один пришел с войны, ни разу не раненый. Почти два года был и – ни разу… Пришел молодой, красивый… А через две недели на улице Мархлевского водосточная труба упала и – по правой руке. И – инвалид… А там, – перешел я на веселенькое и показал правее, – снимали «Берегись автомобиля!». Помните, где в комиссионном работал Андрей Миронов? Вон там они поставили киоск, в котором Смоктуновский покупал сигареты «Друг», а вообще-то там находился киоск пивной, и очередь к нему, случалось, тянулась вот от этой церкви – Успения Богородицы, а в ней был музей речного флота, и перед входом стояла скульптура: моряк за штурвалом.
Икс Игрекович скорее терпеливо, нежели с интересом слушал.
– А вот тут, на углу, был магазин «Галантерея»…
– Вы про все дома будете рассказывать – их здесь много?
А я продолжал.
– В 82-м году какой-то хмырь покупал здесь электробритву, чем-то ему не угодили, и он написал жалобу в Управление торговли… написал жалобу, а подписался: «Фельетонист Коклюшкин». И на жалобу пришел ответ… и не мне домой, а в редакцию «Московского комсомольца», где я много печатался и даже был дважды лауреатом… дважды лауреатом и вдруг предстал, как склочник.
– От этого не умирают.
– А вот здесь, – я обернулся и показал на большие витрины, – раньше была библиотека. Высокие потолки, и книги, книги… Много я книг перечитал отсюда, скрасили они мое детство и юность, пойти, что ли, поцеловать эти большие стекла?
– Грязные они, пыльные… – посочувствовал Икс Игрекович.
– Какие уж есть! Дорогих моему сердцу окон, дверей и… людей не столь много.
Мимо прошла парочка. Они торопились к метро. Причем женщина молодая еле поспевала за мужчиной.
– Я был женат три раза, – сказал, глядя им вслед, Икс Игрекович. – Первый раз по-студенчески необстоятельно. Я был устремлен не в семейную жизнь, а в свою будущую театральную. Вторая жена захомутала меня… расставила капканы, и я попался. Я чудился ей тем, за чьей спиной можно жить безбедно и престижно. И крутить хвостом. Третий брак – это не союз двух сердец, а союз двух умов. А она говорит, что – любит… юное, прелестное создание говорит, что – любит!
– И это льстит вашему старческому самолюбию.
– Почему старческому?
– А как же! Помните у Чехова в «Трех сестрах» Чебутыкин говорит: «Я старик. Мне скоро шестьдесят».
– Ну, когда это было! И потом Чехов написал «сестер» в сорок лет, мне самому в сорок казалось, что…
– Представляю, что ей кажется в ее двадцать!
– Вы бы уж что-нибудь про дома, про двери и окна рассказали, – надулся Икс. – Я же вам не для того, чтоб вы иронизировали. Я… посоветоваться.
– Ну, слушайте. Этот раздолбай был светловолос, кудряв, голубоглаз… голубизна, правда, какая-то льдистая. Она – мышка-норушка из санчасти. Маленькая, ловкая. От людей ласки в жизни своей не видела – из семьи многодетной, отец пьяница, вот и попалась. На ласковое слово, как на крючок. По договору два года медсестрой работала, и года полтора ни с кем ничего, со всеми одинаково любезна, ну а потом – ответила соблазнителю любовью, да такой, что… Уехала она, а нам с тем Владькой еще год служить, третий… я – старшина, он – рядовой у меня в роте. И вот июль был… или август, не помню, приходит он ко мне после отбоя и говорит испуганно: «Она приехала!» Я сначала не врубился, а когда понял… даже сейчас чувствую тот привкус тревоги. «Что делать? – спрашивает. – Она там… ждет одна». Одна… сначала до большого города, оттуда по железной же дороге до маленькой станции, и от станции – тридцать пять километров по старой лесной дороге… в нашу секретную ракетную часть, и ждет сейчас его за колючей проволокой… И ночь уже. Что делать? Дал я ему ключ от летней каптерки, что была у края леса и где лежал тюк маскировочной сети, старые бушлаты, лопаты… Утром Владька распрощался с ней, ушла она, а через неделю опять… поездом, поездом, по лесной дороге полузаросшей… Три раза приходила.
– А потом? – спросил Икс Игрекович.
– А потом повесилась. Этот мудак спутался с другой медсестрой, а той кто-то написал… Оставила письмо с его адресом, ему прислали… И уж совсем беда… отец-то ее к тому времени помер, и она в семье за кормильца была.
– А этот… солдат?
– Владька-то… а как с гуся вода. Удивился сначала как-то испуганно, да и успокоился.
Мы помолчали.
– Икс Игрекович, а почему вы не ездите на своей машине, ведь у вас же?..
– Открывать гараж – закрывать… – поморщился он. – Я в детстве в шахматы играл – за уши не оттащишь! А сейчас иногда смотрю на играющих и думаю: зачем? Напрягаются, нервничают… зачем?
В метро мы успели.
Пора было приниматься за роман. Возвращаться в тихую, сладкую жизнь выдумщика. Плавать в облаках, летать в подводных царствах, возводить города, рушить и биться за правду.
Литература… Кажется, все-все-то у человека есть: власть, деньги, семья, а – мало ему! Подавай книгу! И вот садится он вечерком за свой шикарный письменный стол, кладет перед собой чистый-чистый, белый-белый лист бумаги, берет ручку, еще секунда и… понимает хитрым своим, изворотливым, упорным умом, что за той чертой, за тем краем невидимым – пусто. Обрыв! Нет, он не покажет своего бессилия – не такой человек! Изловчится, найдет безвестного, способного, продажного, купит с потрохами, и тот наваляет ему книжонку (книжищу!), однако не обмануть себя – навечно запомнит богатый и властный то свое бессилие. И приглядываться будет к писакам и…