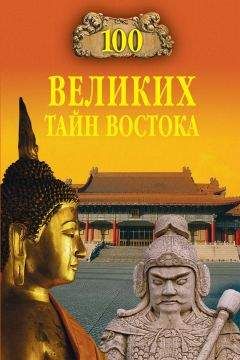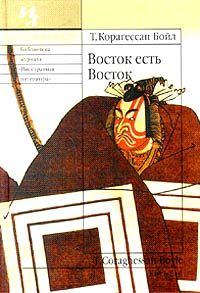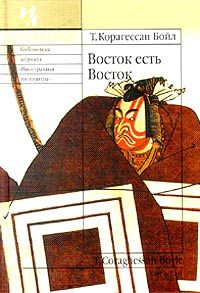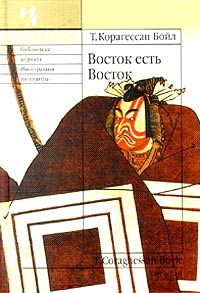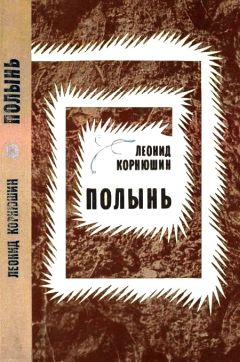Елена Черникова - Зачем?
- Бог с тобой, я спать ложусь. Вот завтра сюда хозяйка ихней комнаты вернётся, её из деревни, то есть с дачи, вызвали, тогда приходи. У тебя здесь что - вещички остались? Ты скажи, я присмотрю. А котика я взяла, ладно?
- Да на здоровье, хоть тигра, бабуля, вы не представляете - что вы мне сейчас сделали! Не представляете!!!
Бабуля поняла это по-своему. Дескать, что горе причинила. Обиделась.
- Знаешь, это не я их выкинула. Они сами. И участковый сказал: сами. Я тебе ничего не сделала! Спокойной ночи! - И с треском бросила трубку.
Мария остолбенело смотрела на свой мобильник. За один вечер он выдал ей три сообщения одно другого круче. Она утратила способность что-либо чувствовать. Если после речи вождя мировой революции она ещё что-то соображала, хотя бы из протеста, что её воспитывают; и если после сообщения, что в её родной квартире проживает синеглазая причина всех её приключений, она сумела удивиться, - то после разговора с бабулей о самодеятельной смерти Николая и особенно Галины, чего не могло быть, Мария словно окаменела.
Она забыла, что намеревалась где-нибудь помыться. Она забыла, что у неё где-то есть Иван с Васькой. Она забыла всё, кроме одного: маленькие кровяные пятнышки на ноге Галины после крысиного укуса. Галина не заболела! Бессмертие не тронуло её! Почему?
Мария похлопала по той сумке, где раньше хранился Петрович.
- Где же ты, испуганный ты мой?.. Как же мне тебя не хватает... Ты уж извини, что я тебя ударила, а ты укусил Галину...
Она лепетала, как в бреду, всякие нежности, обращая их к безвозвратно утраченному Петровичу, и надеялась, всё-таки надеялась на чудо, что кто-то придёт и всё ей объяснит. Главный вопрос изменился и теперь звучал так: действительно ли она, Мария, бессмертна навек? Или может в любой момент произойти осечка, как с Галиной? Похоже, она впервые в жизни абсолютно искренне радовалась чужой смерти. Всем сердцем радовалась.
Странно всё-таки устроен человек! Особенно женщина.
Еще минуту назад надеялась умереть, а вот сейчас вдруг жалко стало. Себя жалко. И не того жаль, что не успела понять - зачем всё это случилось, а просто себя как физический объект.
Мария присела на бордюр, поставила сумки башенкой и попробовала пристроиться поспать на них. Единственное, что ей удалось, - это закрыть глаза. И то лучше бы не делала этого! Память мигом начала артобстрел. Картины минувшей жизни вылетали, как из миномёта, и ярко разворачивались во всех деталях.
Сначала прилетел новорождённый Васька. Он был очень приятный ребёнок, спал по ночам, улыбался по утрам, - как это было прекрасно! Особенно грело ощущение мимолётности: вот-вот он вырастет. Младенцы недолго младенчествуют.
Вот он пошёл, вот побежал, вот заговорил, - и всё быстро-быстро, мелькают счастливые эпизоды и сразу же рассыпаются, как глиняные черепки, поскольку в чувствах их нет, кончилось всё сразу, как время. Ведь тогда, в смертной жизни, оно было, было, длинно-короткое время. Словом, у него был какой-то размер. А потом ушло и время, и размер.
А сейчас - когда Мария узнала о гибели своих друзей, которые не должны были умереть, а должны были, хотели, это было очевидно, остаться в жизни навсегда, - она опять ощутила то старое, длинно-короткое время и затосковала.
Так затосковала, что если бы к её положению подходило выражение смертная мука, то именно сейчас его следовало бы применить.
А память хрипит, надрывается, бросает в топку её смертной муки всё новые старые картинки: вот она с мужем катается на маленьком красно-белом кораблике по соляным полям в Адриатическом море. С воды видны зеленые стены солеварен на берегу, свисают ползучие кустарники, а из каждого окна игрушечных домиков - розы. Яркие, как солнечные вспышечки. С моря, с кораблика, так хорошо смотреть на солеварни! Она тогда всё фотографировала их на память и думала: вот вечный продукт - соль; вот вечная неубиваемая субстанция - вода; вот мой муж... Она просто забавлялась мыслями о вечности, о любви, - почему бы не позабавляться, когда точно знаешь, что всё это относительно ненадолго!
А сейчас, на уличном бордюре, отмахиваясь от медовых воспоминаний прежней жизни, она вдруг почувствовала и прямо противоположное: не хочу обратно!
Не хочу в смертную жизнь! Вот о чём кричала каждая её измученная бессмертием и его проблемами клетка!
В сумке опять зазвонил телефон.
Мария с готовностью нажала кнопки:
- Слушаю вас, Владимир Ильич!
- У вас в голове явно светлеет. Хотя, конечно, ход мыслей и чувств абсолютно предсказуемый, даже банальный, но всё-таки, всё-таки лучше. Я помогу вам, но сначала ответьте себе на один вопрос: зачем?
- Что зачем? - переспросила Мария.
- Не заставляйте меня материться. - И он исчез.
Иван Иванович встретил утро на пенёчке в лесу. Всю ночь он просидел там, думая о своей жене. Охрана не мешала, даже из-за кустов не высовывалась. Думать можно было вволю. Мар Марыч разрешил Ужову ходить куда ему вздумается и вообще вести себя как угодно. Кроме, разумеется, попыток вернуться в Москву.
Когда запели утренние пташки, Иван Иванович сделал неожиданный вывод, что Машу он никогда больше не увидит.
Это шепнул ему внутренний голос. Он сообщил, что всё главное, что могло произойти между нормальными смертными Ужовыми, Марией и Иваном, произошло.
"Но мне мало!.." - возмутился Иван Иванович.
"Тебе достаточно!" - беспощадно отрезал внутренний голос.
Этот диалог был абсолютно неожиданным результатом ночных лесных раздумий. Сначала по экрану памяти Ужова несколько часов плыли картины, к которым он никогда раньше не обращался: первая встреча с Машей, первые радости прикосновений, весёлая свадьба в институтской столовой, рождение Васьки. Между свадьбой и Васькой было несколько лет, но эти подготовительные годы почему-то не проплывали по экрану памяти, а проносились, как на ускоренной перемотке, будто слепяще-раскалённые, как вспышки электросварки.
Совершенно не привычный к самоанализу, Ужов обнаружил в себе и сентиментальность, и умение плакать, и даже тоску и муки любви, - всё это раньше тонуло в простом бытовом счастье и не препарировалось. Ужов годами занимался своим языкознанием в полную грудь и не чуял, какой крепости тыл у него дома: мы ведь не замечаем воздух.
Кстати, Мария жила точно так же. Им обоим повезло. Единственный в их семье, у кого бывали в жизни проблемы, сомнения, раздумья, взлёты и падения, - был Васька, рукастый вундеркинд, практически неизвестный своим родителям в названном качестве.
Ночь на пенёчке приоткрыла Ужову глаза на его собственный мир, ныне разрушенный болезнью всей семьи. Несколько раз он порывался позвонить жене, но всякий раз успевал отдернуть руку. То запеленгуют, напоминал он себе, то говорил: а что мы сейчас можем выяснить?
Часам к шести утра он ощутил в ладонях Машино плечо, будто вживую погладил, и поразился: как он раньше не замечал этой нежности, мягкости, любовности!..
Он удивился собственному открытию, что он никогда никому не был любовником, никогда, даже собственной жене. Студент, аспирант, жених, муж, кандидат, отец, доктор, семьянин, известный учёный. Ну, ещё пассажир метро. Ну, пешеход, соблюдающий правила уличного движения. Да, кое-что изменилось в статях Ивана Ивановича. Теперь он тщательно охраняемый бессмертный пленник миллиардера Мар Марыча, озадачивший гостеприимного хозяина так, как никто и никогда не мог бы озадачить этого необыкновенно везучего... хм... предпринимателя.
Ужов постарался отогнать образ Маши, замахал руками, словно стряхивая с ладоней шёлковое ощущение её кожи, а потом вдруг увидел себя со стороны, горько усмехнулся и опустил руки. Рождение мужчины в себе самом он переживал с чувством ужаса: ведь как это не вовремя, ведь без перспективы развития, страшно, неуместно, глупо! Как ни костерил себя Иван Иванович, но это пробуждение чувственности проходило бурно и откровенно, не давая ни малейшего повода перепутать жанр.
Горечь открытия была по-настоящему горькой, с привкусом хинина; Ужов чувствовал её языком, даже пальцами. Тяжкая выпала ему ночь. К утру он на полголовы поседел.
- Как? - обрадовался Мар Марыч за завтраком. - Вы можете поседеть?
- Оказывается, могу, - без энтузиазма отозвался Ужов, очищая яблоко. - Что вы этим хотите сказать?
- Я, Иван Иванович, хочу сказать, что мои наблюдения над окружающими меня больными, коих пока, к счастью, лишь трое, позволяют сделать очевидный вывод: болезнь у всех течёт по-разному - до такой степени, будто это разные вирусы.
- Вы о бедняжке Ильзе?
- Надо что-то делать. Она раздулась. Скоро станет, по-моему, шарообразной. Ни одна из субстанций организма не может покинуть её. Зрелище с каждой минутой становится всё страшнее. Я думаю, может, заключить её в какой-нибудь сейф, чтобы не лопнула?
Ужов содрогнулся и отложил яблоко.
- Я же говорил вам, помните? Она при жизни... - тут он хихикнул, - была очень жадная девица. Она, получается, и сейчас ни с чем расстаться не может. Специфическое осложнение. А вы говорили, что надо ей психологически помочь. Поздно!