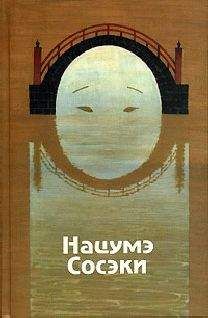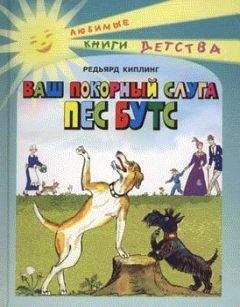Алекс Тарн - В поисках утраченного героя
— Да, вы правы. Действительно. Как это я упустил? Всё о себе да о себе. Вам, наверное, скучно, и к делу не относится.
— Нет-нет, — быстро отвечает она, не отрываясь от блокнота. — Мы ведь уже договорились, что я всего лишь корректор. Дело не в моем интересе, а в интересах дела. То есть текста. Текст сам решит, что важно, а что нет. Продолжайте, пожалуйста.
И я продолжаю — с тем же странным чувством, будто слушаю не себя, а кого-то другого — слушаю и удивляюсь. Удивительно, как много я помню из того давнего разговора. Удивительно, сколько нового открывается мне сейчас — словно прошедшие десятилетия превратились не в толщу густеющей мути, а в увеличительное стекло, которое становится все ясней и прозрачней с каждым наслаивающимся годом.
Лёня Йозефович попал в военное училище из соображений династической преемственности: три поколения его семьи непременно отправляли своих мальчиков в офицеры Советской Армии — другие варианты карьеры просто не рассматривались. Но почему именно в военно-политическое? На это, по словам Лёни, имелась весьма веская причина. Его дед, герой Отечественной и генерал-полковник в отставке, утратил к семидесятым годам все свои прежние связи, за исключением одной: некий старый фронтовой кореш пока еще генеральствовал в управлении кадрами. По иронии судьбы, это оказалось управление кадрами политучилищ — в те времена отдельное от общеармейского. Кто ж мог тогда знать, что кореш сыграет в ящик всего через месяц после того, как Лёня станет гореловским курсантом?
Но настоящий интерес в лёниной истории представляли вовсе не его загубленные карьерные перспективы. Лёня был бледненьким побегом могучего древа сибирских Йозефовичей — лекарей, железнодорожников и партизан. Его прадед, весовой мастер Канской дистанции Транссибирской железной дороги, происходил из семьи военфельдшера, ветерана Крымской войны. Поначалу евреев в Сибири было немного — лишь ссыльные да откомандированные по государственной службе, как тот фельдшер. Затем, с началом строительства железной дороги, открылись заманчивые возможности для образованных, быстрых на подъем людей — технарей, купцов и промышленников. А после столыпинских реформ нахлынули переселенцы из Белоруссии, Польши и Украины — за дармовой землей и свободой.
Свобода свободой, но черта оседлости действовала и в Сибири: в губернские города евреев не допускали. Зато в уездах никто не мешал и не травил — жили на равных со всеми, антисемитизмом почти не пахло. Огромному Транссибу позарез требовались работники; инициативные и грамотные евреи стали самым распространенным кадровым решением на всем протяжении сибирской магистрали. По словам Лёни, главным их преимуществом являлись даже не технические способности, а устойчивость к пьянству. Не то чтобы совсем не пили — как в России не пить? — но умели вовремя остановиться, ответственность свою железнодорожную соблюдали.
Дед рассказывал ему, как мальчиком выезжал с отцом на дистанцию — инспектировать станционные весы.
— Ты человек столичный, знать не знаешь, что такое для Сибири эта железная дорога, — говорил Лёня, блестя глазами в промозглой полутьме камеры. — Даже и теперь еще, а уж в начале века и подавно. Это ведь не просто главная артерия — это единственная артерия. А кроме нее — ничего, кроме крохотных сосудиков — таежных троп и грунтовых дорожек, непролазных восемь месяцев в году. На всю гигантскую Сибирь — ничего! Представляешь? По рекам еще иногда можно сплавиться, но реки — они ведь по-своему норовят, с людскими нуждами не считаются.
Вот и выходит: есть железка — есть жизнь, а нет железки — и жизни нету. Грузы-то купцам и промышленникам возить как-то надо. А груз оплатить нужно. А для оплаты что требуется? Правильно — взвесить и посчитать. Ну и скажи мне теперь, был ли кто в Сибири главнее станционного весовщика? А прадед мой этих весовщиков инспектировал! Чуешь масштаб фигуры? Бог и царь! В рамках своей Канской дистанции, конечно.
— Свой вагон у него имелся, как у императора. Прибывает к полудню на станцию, а там уже местный весовщик стоит с хлебом-солью, с ноги на ногу переминается: «Наконец-то, свет-Евсей Давыдыч, мы тут все глаза проглядели ожидаючи…» И сразу в вагон — шасть. А за ним бабы закуски несут: казанки с парком, котелки с дымком, стерлядь да икорку, пироги с осетриной. Оглянуться не успеешь — вот и стол накрыт, четверть стоит запотевшая, стаканчики блестят, огурчики подмигивают. Садится весовой мастер сам-друг с весовщиком, начинают дружить и жизнь обсуждать, а о весах между тем — ни слова.
За окошком темнеет, зато светлеет бутыль зеленого стекла — вот и вышла вся. Подзывает отец сына не слишком уже послушным пальцем: «А сходи-ка, сынок, принеси…» «Обижаешь, Евсей Давыдыч, — качает отяжелевшей головой весовщик. — Где это видано, чтобы гость хозяина угощал?» Хоп — и откуда ни возьмись — вторая четверть. Все ниже буйны головы, все бессвязнее дружеская беседа. Так и пьют, под конец уже совсем молча, косят налитым сивухой глазом, ждут: кто первый под стол упадет? Это вопрос важности первостатейной, потому как ежели скопытится весовщик, быть наутро проверке. А ежели, напротив, не выдержит мастер, тут уж — не обессудь, Евсей Давыдыч, обычай есть обычай, — езжай себе с миром дальше, до следующей станции.
Так и жили — хорошо жили, спокойно, себя не забывали, но и дорога работала как часы, никто не жаловался. У деда пять братьев было и сестра — все образование получили, все домой вернулись — в родную Сибирь, к родной дороге. Потому что от добра добра не ищут. Но тут грянули в столицах известные неприятности. В восемнадцатом году лёнин дед учился в Томском университете, на втором курсе медицинского. Оттуда Колчак его и мобилизовал в свою армию.
По словам деда выходило, что поначалу власть адмирала казалась вполне приемлемой. Но потом пришла Народная армия Каппеля, ядро которой составлял ударный корниловский полк, не сумевший пробиться на юг к Деникину. Офицеры Первой мировой привыкли рассматривать прифронтовых бессарабских и польских жидов как потенциальных шпионов и саботажников. К несчастью для белых, евреи Транссиба успели прочно забыть о подобном к себе отношении. Дед уверял Лёню, что в конечном счете именно каппелевские антисемитские эксцессы сгубили адмирала Колчака: от него отвернулась железная дорога, а как уже отмечалось, без железки в Сибири — смерть.
Когда почтенного весового мастера Йозефовича в очередной раз обозвали грязным жидом и пригрозили вздернуть на станционной водокачке, он взял карабин и ушел в тайгу с сыновьями. Так поступили тогда многие евреи-железнодорожники. Дезертировал в тайгу от Колчака и дед. Дорога досталась красным, а с нею — и вся Сибирь.
Гражданскую войну Йозефовичи закончили красными командирами, героями партизанского движения. Увы, за победу пришлось заплатить дорогую цену: погибли два брата из шести, умерла от тифа сестра, был схвачен белыми и повешен отец. Это превратило идеологические счеты в личные и не оставило выбора уцелевшим: до последней капли крови мстить гидре мирового империализма.
Гидра оказалась зубастой. Птенцы гнезда канского весового мастера исправно клали свои головы в пески Средней Азии и Испании, в снега Забайкалья и Финляндии, в кровавое месиво Великой Отечественной. Впрочем, неожиданно выяснилось, что есть чудовища поопаснее гидры: большинству Йозефовичей выпало погибнуть как раз от пуль великого отечественного производства — ввиду своей преступной близости к некоему опальному маршалу. Послевоенные сталинские кампании тоже не отличались юдофильством. В итоге к моменту моего знакомства с Лёней мощный когда-то род Йозефовичей насчитывал всего лишь восьмидесятилетнего деда-генерала, заткнутого куда-то за Можай отца-подполковника и, наконец, последнего из могикан — самого Лёню, курсанта-арестанта Ленинградского военно-политического училища.
Я слышу скрип открывшейся двери наверху. Иногда отцу становится тесно, и он удлиняет свой возвратно-поступательный маршрут за счет коридора. Снаружи насвистывает ветер. Дождь лупит по ставням. Настоящая зима, какой она должна быть, — с дождем, с мокрой землей, с зеленью на наших газонах и на наших холмах. Наша зима. Черт бы побрал их — те, чужие зимы, с их снегами по пояс, транссибами, колчаками, каппелевцами, чекистами и опальными маршалами. Черт бы побрал Карпа Патрикеевича Дёжкина. Черт бы побрал наше похмелье в чужом пиру. Что вы забыли на той чужой железной дороге, Евсей Давыдыч? — Виселицу? Штык в грудь? Пулю в затылок? Да пусть они катятся к этой самой матери со всеми своими дорогами, фронтами и столицами…
— Карп… Карп?..
Я оборачиваюсь от окна. Совсем забыл о ее присутствии. Уютно устроилась на диване — ноги поджаты, плед, блокнот на коленях, лампа. Красивую он себе ассистентку отхватил. Вернее, кто кого отхватил…