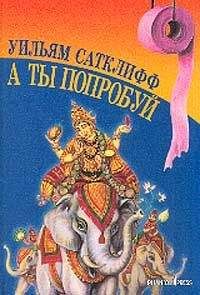Уильям Сатклифф - Новенький
Чувство самого себя, оно же “для-себя-бытие”, базовое существование, отрицает “другого”. Поэтому в своем сознании оно становится Несомненным, в отличие от чего-то, что определенно существует, но чему, однако, присуща значимость без свойственного ему существования; сознание расщепляется на эту данную реальность и Смерть, которая осознается им через вытеснение реальности, Смерть, которой, в сущности, оно заменяет данную реальность. Эта первичная Смерть, однако, есть прямая квинтэссенция “для-себя-бытия”, другими словами, видя себя как...
– Итак, давайте поговорим о только что прочитанном вами пассаже.
– Э... – Я несколько раз открыл и закрыл рот. Вероятно, от этого я выглядел особенно глубокомысленно. – Э... я бы сказал, что он о самосознании и о том, как воспринимать... э... индивидуума в сравнении с другими людьми.
– Но, безусловно, самосознание, которое в целом осознает себя как реальность, сосредоточено не на себе самом, но на объекте, который первоначально есть лишь предмет самосознания.
– Ммм... Вы не могли бы повторить?
– Безусловно, самосознание, которое в целом осознает себя как реальность, сосредоточено не на себе самом, но на объекте, который первоначально есть лишь предмет самосознания.
– Да. Согласен.
– Но как вы можете быть согласны, если придерживаетесь мнения, что индивидуальность преимущественно проявляет себя в отношениях с окружающим, с внешним. Разумеется, самосознание, объект которого – оно само, полностью противоречит “общественно-”, – он нарисовал в воздухе кавычки, – ориентированной позиции.
– Понятно. Правильно. Я хотел сказать, что самосознание – это в основном нечто личное. Не общественное.
– Так вы архитэтчерист?
– Я?
– Вы, разумеется, понимаете, что исключить вообще все связи с обществом при обсуждении самосознания означает отказаться от любых надежд на создание идеологии, альтернативной рыночной. Неужели вы не понимаете, как опасна концепция “личного” в постиндустриальном мире? Я потрясен тем, как ваше поколение забывает в этой полемике о категории духа, – подход, который, без сомнения, согласуется с разрушением базовых принципов...
Мозг у меня вырубился. Это, впрочем, для остатка интервью было неважно, поскольку доктор Чэмберс все равно разговаривал сам. Однако получилось довольно неловко, когда полчаса спустя наверху у доктора Морна я оказался не в состоянии ответить на вопрос, почему хочу поступать в Кембридж.
Когда я, наконец, пошатываясь, вышел на новый двор Тринити, мне понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, кто я и где нахожусь. Я чувствовал себя жертвой психической автокатастрофы.
Стоя там, я вспомнил школьные хоккейные матчи. Было что-то агрессивно английское в этом месте, что и вывело меня из себя. Мда-с, я определеннов меньшинстве. Я побрел мимо церкви, или часовни, или как оно там называется, и услышал оттуда пение. Пели громко, но не изо всех сил громко – с нормальной воодушевленной громкостью. Правильные слова и все такое.
Я сунул нос за дверь и обнаружил, что это не служба – просто репетиция хора. Хормейстер – похоже, обычный студент – увидел меня и пригласил сесть и послушать. И он не вяло это предложил, а скомандовал голосом человека, которого все слушаются, так что я сел. На вид все хористы были довольно упитанные. Некоторые довольно симпатичные. А пели они потрясающе. Превосходные музыканты – должен признаться, звучало их пение прекрасно. Невероятно, что все они были такие знающие и увлеченные.
И не одинокие старики, которые вот-вот умрут, – молодые, здоровые с виду люди.
Хорошо, что я уже сидел, а то бы упал. Вот же срань! – подумал я. – ТВОЮ МАТЬ! Поверить не могу! Невероятно! Я живу в христианской стране! Вся эта чертова страна, не считая Северного Лондона, кишит гадскими христианами! Господи боже, да что ж это за страна такая? Как я раньше не заметил? Черт – может, кто-то действительно смотрит “Хвалебные песни”<Сериал на канале Би-би-си. Вообще-то, начал выходить лишь в 1991 г., т. е. спустя четыре года после описываемых событий.>.
Это крошечное откровение в часовне Тринити-колледжа, или церкви, или как оно там называется, напугало меня до полусмерти. Я изо всех сил помчался на вокзал. Я хотел домой.
Лишь спустя пару часов, сидя на Кольцевой линии, отъезжая от станции “Фаррингтон” (ахххх – чудесные, знакомые названия), я осознал, какой колоссальный кретин доктор Чэмберс. Ни при каких условиях я не мог понять, о чем он талдычит. Должно быть, хитроумная наколка, которой я не понял. Будь я каким-нибудь Пирсом, может, предложил бы ему отвалить, и через несколько минут мы бы уже фыркали над стаканами шерри, обсуждая тему моей диссертации на первом курсе.
Глава сорок вторая
Все вокруг сражались с собеседованиями и предложениями университетов, а у Барри был лучший семестр за всю учебу. Место на консультационных курсах ему уже пообещали, и он мог сдавать экзамены за шестой класс, особо не нервничая по поводу результатов. Это, правда, странным образом на него повлияло: вместо того чтобы вкалывать поменьше, он вкалывал изо всех сил. Говорил, что не напрягается, – просто впервые понимает, что делает, и школьные занятия начинают ему нравиться. Преподы заметили успехи Барри и впервые признали его старательным и умным учеником.
В середине семестра его классный руководитель даже назначил ему специальное собеседование и спросил, нельзя ли уговорить Барри хоть с опозданием, но подать заявку в Центральный совет университетских приемных комиссий. Пообещал хорошие рекомендации и успешную сдачу выпускных экзаменов. “Будет ошибкой, если ты хотя бы не попытаешься”, – сказал классный.
Барри рассказывал, что примеривался ответить: “Какой ошибкой, ограниченный, повернутый на университетах козел? Наклонись, давай свою анкету, я ее скручу в трубочку и засуну куда полагается”. Однако довольствовался “извините – академическая карьера не для меня”.
* * *Я по-прежнему массу времени проводил с Барри в обеденные перерывы, но вне школы видел его все меньше и меньше. С тех пор как с Луизой все стало странно, мы как-то отдалились друг от друга. Вечерами мы оба занимались, а в выходные Барри работал или встречался с друзьями.
Я точно не знал, что он такое делает, но он вдруг стал страшно занят, и на меня времени у него оставалось совсем немного. Или, может, это у меня оставалось немного времени на него. Не знаю, как это получилось, но мы, видимо, потеряли друг друга. А когда сходились вместе, все было не так, как раньше. Я часто нервничал или страдал из-за Луизы, а Барри, судя по всему, был занят чем-то своим.
Раньше мы все друг другу рассказывали, но теперь оба понимали, что скрываем что-то и это влияет на все, что было между нами. Ничего конкретного – мы никогда не спорили, ничего. Просто больше не зажигали друг друга – из дружбы ушла всякая страсть, отношения успокоились. Но все равно было как-то неспокойно.
Я хотел рассказать ему про Луизу. Вернее, я хотел спроситьего про Луизу, но так и не собрался. По его виду было не понять, что он о ней думает, а я не мог заставить себя спросить. Я отчаянно хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне: “Да, с ней трудно, но она того стоит”, или еще что-нибудь, чтобы я снова понял, что происходит. Мне требовалось, чтобы кто-то заверил меня: я нормален, а чокнутая из нас двоих – Луиза, но поговорить об этом с Барри я не мог, поскольку ужасно боялся, как бы он не встал на ее сторону.
Я держал это все в себе, и потому мы отдалились, но я не мог избавиться от чувства, что вся холодность идет от него. Я чувствовал: Барри что-то от меня прячет. Он вдруг совершенно освободился от нашей дружбы и от всего остального в школе тоже – кроме учебы. Мысленно он был где-то в другом месте.
Это меня обламывало. Будто он потерял ко мне интерес. Барри оживлялся лишь во время бесконечных разговоров о моем детстве, в которые продолжал меня втягивать, да и то, судя по всему, его интересовал скорее Дэн, чем я, и это было возмутительно.
В общем, я начал подозревать, что Барри и Луиза против меня сговорились. Я чувствовал себя изгнанным и обижался, что Барри на ее стороне.
Отказ из Кембриджа меня почти не удивил. Поскольку мысль когда-нибудь снова увидеть доктора Чэмберса вызывала у меня тошноту, я не слишком расстроился, что не буду учиться там, где он преподает. Вряд ли непроизвольная рвота на семинарах – свойство идеального студента.
( – Марк, считаешь ли ты, что чувство вины – краеугольный камень, на котором построена любая трагедия?
– ХХХХХХРРРРРРРРРГХХХХХХХХ БЛЭЭЭЭЭЭ-ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!
– Очень интересно. Ты не забыл сегодня швабру?)
Классный руководитель сказал, что в школе все были “крайне удивлены” отказом из Тринити. Он также сказал, что у препода по английскому есть связи в других кембриджских колледжах и он сделает все возможное, чтобы “замолвить за тебя словечко”. Вскоре после этого меня пригласили на собеседование в Селвин-колледж, который отменил свой отказ и предложил мне место при условии трех пятерок на экзаменах. Я понимал, что должен быть благодарен школе, но, если совсем честно, мне было абсолютно до лампочки. Мне-то хорошо, зато плохо тому бедному козлу, чье место я занял, дернув за ниточки. Мне было хреново, поскольку я воспользовался именно тем дерьмом, которое ненавидел в школе больше всего.