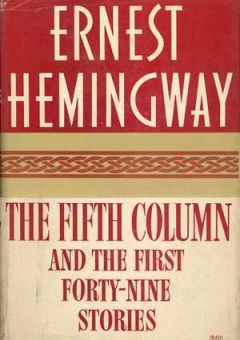Глен Хиршберг - Дети Снеговика
За зимние каникулы мисс Эйр сделала еще одну операцию на своих раздробленных скулах, и теперь ее лицо выглядело не так ужасно. Правда, она побледнела. Из-за всех этих операций и лечения ей приходилось беречь лицо даже от зимнего солнца. Она казалась хрупкой, как китайская тарелка, которую кто-то разбил, а потом склеил; недоставало лишь одного-двух крошечных, совсем незаметных осколков.
Во время перерыва по периметру лесной зоны выстраивались охранники из новоиспеченной добровольной дружины. Они стояли на расстоянии двадцати шагов друг от друга, причем лицом не к внешнему миру, а к школьной площадке, дабы держать нас под неусыпным надзором. Временами, когда небо над школой затягивали детройтские снеговые тучи, серые от заводских выхлопов, я представлял себе, как из леса выйдут полчища снеговиков и сомнут ряды беспомощных дружинников.
В классе верховодила Тереза. Она блистала как никогда. В конце января у нас был День Охоты на Ирисок. За каждый правильный ответ ученик получал одну «пульку» в конфетном автомате мисс Эйр. Тереза заработала первую «пульку» за первые пять минут урока, одним духом выпалив шестнадцать названий мировых столиц. Последней был Рейкьявик, который она к тому же произнесла по буквам. Автомат выдал за ее ответ три ириски. Если Тереза сразу отправляла ириску в рот, это означало, что она либо удовлетворена, либо ей наскучило и она готова дать возможность выиграть кому-то еще. В тот раз она положила ириски в карман, а возвращаясь на место, раздала приглашения на свой день рождения и «Битву умов» 1977 года. Приглашены были мы со Спенсером, Джон Гоблин и Мэрибет Ройял, новенькая из Торонто, которая всегда носила юбки на пуговицах, а нижнюю не застегивала, чтобы было видно колени. Помнится, я весь день пялился на эту нижнюю – незастегнутую – пуговицу.
– Черт, – буркнул Спенсер, когда Тереза снова уселась за «Стол одиночества». – Сегодня от нее пощады не жди.
К завтраку она заработала четырнадцать «пулек», и мисс Эйр освободила ее от участия в дневном состязании. Мы со Спенсером заработали оставшиеся «пульки», по паре на брата, да и то пока Тереза была в туалете. Я обставил ее по текущим событиям, которые большей частью состояли из разных мелочей, связанных со Снеговиком. В тот день вопрос касался психологического портрета из утренней газеты. Я как сейчас помню статью, напечатанную сбоку от рисунка, сделанного по описанию лучшего полицейского психолога.
В перерыв я отдал свои ириски Гаррету Серпайену. Внутри они были совершенно безвкусные. Побрызгали сверху клубничным сиропом, и все. Как только первый слой съедался, начинало казаться, что жуешь собственный язык. Тереза провела весь завтрак, разгуливая между охранниками, стоявшими по периметру школьного двора. И Спенсер видел, как она одну за другой выбросила ириски в снег.
– Убей, не понимаю, как с ней говорить, – сказал он нам с Джоном, Гарретом и Мэрибет. – Все равно что с золотой рыбкой. С золотой рыбкой, которая знает, как пишется слово «Рейкьявик».
Все согласно закивали, включая меня. Стоя с ними, я испытывал чувство вины, но не из-за того, что сделал что-то не то, а потому что все это казалось мне новым и волнующим: быть просто мальчишкой из другого квартала, иметь с ними по крайней мере одного общего демона, не понимать Терезу, потому что я был скорее как все, – хотя предпочел бы находиться рядом с ней. Мне хотелось метнуть в нее снежок, как гарпун, и притянуть ее к нам.
В феврале в Детройте установилась сухая погода. Температура поднялась выше нуля, и истерия по поводу Снеговика, достигнув пика, слегка притупилась. Копы по-прежнему брали нас в кольцо на перекрестках и эскортировали на переходах. Родители по-прежнему уходили с работы до трех, чтобы встретить своих детей на автобусной остановке. Но теперь они хотя бы разрешали нам в теплые дни играть на улице, выдав обычную порцию предостережений. Девятичасовой спецвыпуск сократился с тридцати минут до пятнадцати. Психиатрические портреты и заметки о возможных нападениях загнали в «подвалы» обеих газет, на «маневренную» площадь в нижнем правом углу первой полосы, отчеркнутую синим контуром. Никто не верил, что он исчез, мы по-прежнему ощущали его присутствие, как тяжесть перед грозой. Просто нам надоело о нем говорить.
Утром, когда я должен был идти к Терезе, мои родители затеяли обычную дискуссию о том, пойдет ли «Битва умов» на пользу их чаду. На сей раз, однако, войдя на кухню, я возвестил:
– Должен же кто-то утереть ей нос. Для ее же блага. – И улыбнулся.
Оба уставились на меня в изумлении: мой озадаченный отец и моя одинокая мать. Даже не знаю, что навело меня на мысль о том, что она одинока.
– Вот ты и утри, – сказал отец. – Принеси в наш дом Почетное перо.
Мать поставила на стол сковородку, которую она вытирала после мытья, и проговорила:
– Если кто-нибудь не уведет ее из этого дома, случится беда. Страшная беда.
Отец вздрогнул, как будто его укололи булавкой.
– Господь с тобой, Алина. Какая еще беда?
– Прости, – сказала она и уронила голову на плечо. Мне показалось, она сейчас заплачет. Я не мог взять в толк, что происходит.
– Ему бы кто посочувствовал! – пробурчал отец.
В первый момент я решил, что он говорит о Снеговике. Но в результате так и не понял, кого он имел в виду.
Мать издала звук, который можно было принять и за смешок, и за рыдание, и за что угодно еще, но отец, видимо, что-то понял, потому как замолчал и тронул ее за руку.
Через несколько минут за окном просигналила миссис Франклин. Я подлетел к шкафу в прихожей и схватил пальто. Мать проводила меня до дверей, высунула голову и помахала миссис Франклин. Та, не заглушая мотор и даже не приоткрыв окно из-за холода, тоже помахала ей рукой в золотистой перчатке, пока я устраивался рядом со Спенсером на переднее сиденье насквозь проржавевшей «импалы».
Мы вырулили на дорогу; яркий утренний свет то вспыхивал, то слабо пробивался сквозь голые ветви в те редкие моменты, когда солнце переплывало с одного облачка на другое. За всю дорогу ни Спенсер, ни его мать не проронили ни слова. Возле дома Дорети мы притормозили, я вышел из машины, а когда Спенсер молча выскользнул следом, обернулся и сказал:
– Спасибо, миссис Франклин. До свидания.
Она тоже что-то сказала, но я не расслышал, потому что Спенсер залепил мне в ухо снежком, и я погнался за ним. Во дворе Дорети мы, сцепившись, рухнули на землю и немного повалялись в снегу; наконец Спенсер поднялся на ноги, по-военному щелкнул каблуками и забухал по ступеням крыльца, не помахав уезжающей матери. Он ткнул пальцем в кнопку звонка и крикнул:
– Ау-у! Здесь сыро!
Клянусь богом, я помню свой следующий вздох – приятно обжигающий, раскрывающийся в моих легких, словно лепестки замороженного цветка. Бывают дни – длинные цепочки дней, когда мне кажется, что я его с тех пор так и не выдохнул.
Дверь открыла Барбара Фокс. Она вышла прямо в чулках и вела себя очень по-хозяйски. Как выяснилось, Барбара жила у Дорети уже несколько месяцев, просто старалась это не афишировать. Она была в шотландке до колена, волосы перевязаны черной ленточкой – совсем как у Терезы. Мысль об этом вызвала у меня целый букет тошнотворных ощущений, но я попытался их проигнорировать. Барбара взяла у Спенсера шарф и пальто, потом принялась за меня и, когда наши руки соприкоснулись, сжала мне пальцы.
– Ты что, здесь в няньках? – спросил я без обиняков, хотя прекрасно знал, что это не так. И тут мне стало совсем тошно.
– Я здесь для того, чтобы увидеть, как ты свергнешь с пьедестала Королеву Молчания, – прошептала она мне в самое ухо. Затем снова пожала мне руку, поддала ногой под зад и выпихнула в коридор. Африканский загар у нее сошел, и она снова превратилась в серую, заморенную детройтскую мышку.
В течение следующего часа я ее почти не видел, поскольку старался ее избегать. Тереза пережарила попкорновые шарики, но доктор все равно выложил их на поднос и стал нас угощать. По вкусу они напоминали толченый вулканический пепел, смешанный с малиновым сиропом.
– Похоже на мозги, – констатировал Спенсер, но один шарик все-таки съел.
Мы сидели с Джоном и Спенсером. Мэрибет Ройял пришла с девочками из Терезиной «епархии», но уселась рядом с Терезой, которая то и дело шептала ей что-то на ухо, и они обе хихикали. Странное это было зрелище – Тереза, хихикающая с подружкой. Я наклонился к Джону, чтобы что-то ему сказать, и увидел, что он не спускает глаз с Мэрибет. Всякий раз как она улыбалась, он улыбался в ответ.
Подарки Терезы, казалось, слетели со страниц некоего сводного каталога именинных подарков. Самыми лучшими были ярко-красный рюкзак и резная деревянная кукла ручной работы, приобретенная, вероятно, в одном из киосков на городском этнографическом фестивале. Мы со Спенсером преподнесли ей миниатюрный конфетный автомат. «Он пригодится тебе, когда мы начнем обскакивать тебя на уроках», – написали мы на открытке. Прочитав, она улыбнулась, сказала: «Спасибо», но взгляда нас не удостоила. Потом снова шепнула что-то Мэрибет, и та снова захихикала.