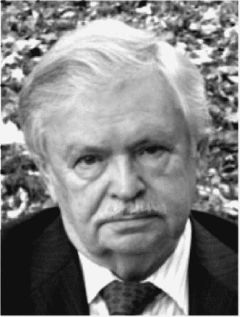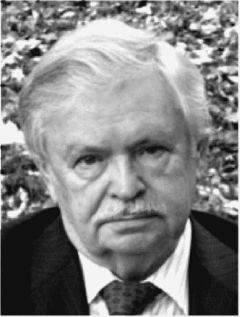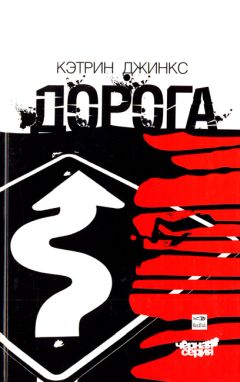Альберт Лиханов - Слётки
Так оно и вышло.
Глебка навсегда запомнил последний миг своего детства. Он проходил мимо старого одноэтажного дома, превращенного теперь в магазин с широченными зеркальными окнами, и смотрел на себя, отраженного. Мальчик, почти юноша, с лицом, на котором – не хочешь, да увидишь – настоящее достоинство. Человек, знающий себе цену. Всё.
Дальше его жизнь решительно переменилась.
Из-за угла вышла Марина. Платок, накинутый на голову, съехал на затылок, волосы растрепаны, из тонкого пальтеца высунулись большие кисти. Конечно, она нетрезва, хотя и не очень пьяна, скорее всего, не пришла в себя после предыдущей выпивки, но вчерашняя она была или сегодняшняя, с утра сказать трудно.
Увидев Глебку, она не отвернулась, как прежде, не спрятала глаза, напротив, уставилась на него, чем-то явно пораженная, и осторожно как-то, во всяком случае, негромко, воскликнула:
– О!
Будто увидела первый раз.
Глебка кивнул ей, сказал: «Здравствуй». Без всякого восклицательного знака в конце. Повествовательно так сказал, просто проговорил это слово.
Они стояли некоторое время вот так на углу, и никого вокруг не было, ни единой души. Потом Дылда сказала тихо:
– Проводи меня. Мне плохо.
Как это надо ее провожать, Глебка представления не имел, и оторопь слегка к нему прикоснулась. Но он еще был под впечатлением своего отражения – в зеркальной витрине – совсем уже не сопливый мальчишка!
Он повернулся и пошел рядом с Мариной. Она двигалась довольно резво, казалось, даже торопится, раза два поскользнулась, оба раза схватив рукой Глебку – то за руку, то за плечо, и ему показалось, что это она нарочно поскальзывается, чтобы ухватиться за него.
Но ему не было это противно – вот что. Он бы даже – будь у него побольше храбрости – мог взять ее под руку. Но это бы было смешно, ведь Дылда выше его на целую голову. Она ведь даже длиннее Борика была.
Так они прошли пару кварталов и оказались возле зачуханного деревянного домика с огородом, уходящим куда-то в сторону. Нет, все-таки не все углы своего замурзанного городка исследовал Глеб – этого не знал вовсе: со всех сторон более или менее цивилизованные дома, и посреди них деревенская избушка, почти как у них, только подревнее, позапущеннее.
Марина нагнулась, вытащила из-под крыльца ключ, отворила избушку, показала жестом Глебке: мол, входи.
Екнуло в нем сердце от предчувствия – не хорошего, а соблазнительного. Он вошел, впотьмах они разделись. Марина захлопотала на кухне и очень быстро Глебку туда позвала, он и оглядеться не успел, хотя понял: все почти как у них дома. Застекленная рамка, за которой таращатся испуганные фотографом лица предков – побольше и совсем маленькие, как для паспорта, зеркало в простенке без всякой окантовки, бедное, как бы голое, стол, на нем книги и лампа с пластиковым абажуром; совсем деревенские, на веревочках, несвежие занавески на окнах.
Когда сели за стол, Глебка спросил Марину:
– А ты что же – не работаешь?
– Выгнали меня, – сказала она без всякого выражения. – Вот так, взяли и вышвырнули.
Глебка хотел спросить, чего же она запила, но споткнулся, зная ответ.
– С кем ты живешь? – спросил неловко.
Она вскинула лицо, некрасивое, но совсем трезвое, даже слишком трезвое, неулыбчивое, и ответила всерьез:
– Жила с Борей… Пока он был. Теперь вот буду с братом его. Глебка не сразу понял, что это она про него говорит, даже кивнул сначала, потом уставился на нее. А она продолжила:
– Я ведь после Борика мать свою похоронила, буквально через неделю… Помолчала.
– Прямо дуплетом – бум, бум! Ты знаешь, что такое дуплет? Глебка кивнул.
– Ну вот, – пробормотала Марина, – давай и выпьем дуплетом – за него и за нее.
Они выпили, не чокаясь, по две стопки, одну за другой, потом молча стали жевать капусту.
Глебка почувствовал, как поплыл куда-то, но было неудобно показывать, что он слабак. Марина поглядывала на него испытующе, словно проверяла, как держит удар.
Потом заплакала.
11
Все, что совершилось дальше, следует решительно опустить, потому что подобным жизнь переполнена.
Глебка, мальчик как все, нагляделся в телике мерзости сверх всякой меры – похоть через край льется. В представлениях своих он всё знал и умел, но когда Марина заплакала, а потом ушла в комнату и прилегла на кровать, растерялся. Сидел в кухоньке, жевал капусту и даже не сообразил еще плескануть себе для храбрости и войти в комнату. Она сама его позвала.
Только тогда он решился, и все у них произошло торопливо, неловко, стыдливо. А потом, когда надо было что-то сказать и посмотреть в глаза друг другу, и вовсе неприятно, потому что Глебка ничего этого не умел, а думал только о том, как бы скорее одеться да выскочить.
Низ живота у него страшно болел, про удовольствие даже думать не приходилось. Но стыда он не испытывал. Просто исполнил какую-то обязанность, что ли. Марина позвала, и он к ней пришел. Но зачем, почему и что дальше – этого он не представлял.
Торопливо двигаясь к дому, разматывая клубок смутных своих чувств, Глебка понял вдруг, что когда это все произошло, они с Мариной даже не поцеловались, что она ни слова не сказала ему, как и он ей, и что, похоже, она чувствовала себя перед ним виноватой.
Мальчишество жестоко – а может, это вовсе и не мальчишество, а что-то совсем другое? Он во всем обвинил ее, даже обозвал про себя самым последним словом. Но потом в нем все как будто сжалось – нет, это он, Глебка, паскудник и предатель.
И что это за оправдание – Бориски нет? Тем более, если нет! Он тебе ничего не скажет, никак не укорит. Выходит, ты совершил безответную подлянку: Борик промолчит, никак не ответит, а ты, брат родной, его предал. Просто предал. И дружки их общие, подуставшие от собственной памяти, просто цыплята в сравнении с тобой, мерзавец!
Совсем еще недавно – час, два назад? – он глядел на себя в стекло и полагал себя почти взрослым человеком! А сейчас оказался сопля-соплей, нагадившим в собственной душе так, чему слова не выберешь.
Глебка шел по улице, и редкие, но все же встречались ему прохожие. И все они оборачивались на парня: лицо спокойное у него, а по щекам плывут слезы.
Дома изнуренный Глебка свалился на свой диван, тотчас уснул, и лишь во сне кто-то над ним смилостивился – ему виделось лето, лужок возле тихой речки и облака, в ней отраженные. Какая-то благость снизошла на него, уравновешивая, наверное, низость произошедшего.
После сна облегчение не пришло, и уроки в голову не шли. На другой день он схватил сразу две «пары», которые теперь надлежало отрабатывать, превращать их хотя бы в тройки. Но все это казалось мелочью, чем-то посторонним, маловажным.
Неприятное ощущение по мере отдаления от него никак не проходило. Глебка клял себя последними словами, страшась не кого-то, не Бориной даже памяти, а себя самого. Но вот поразительно, все это чувствование все-таки отплывало, отходило куда-то в сторону, хотя и не покидало вовсе. Глебка просто физически чувствовал, что с ним происходят какие-то странные изменения. Мускулы рук и ног стали наливаться силой, как будто он серьезно тренировался, бегал, например, или подтягивался, плечи его разворачивались и явственно становились шире. Глебка с удивлением прислушивался к переменам, происходившим в себе и, стыдясь самого себя, будто шепотом спрашивал, неужели это только оттого, что с ним произошло, и не находил ответа, потому что ведь спросить-то было некого. Да если бы и было – разве о таком спросишь?
Марина тем временем куда-то исчезла, даже не из памяти – из сознания.
Он будто забыл о ее существовании, слыша только собственные перемены. Но и это, пусть временное, равновесие не могло продолжаться долго.
Он снова встретил ее, на этот раз неподалеку от школы, и подумал с ходу, что она здесь не случайно, может, даже подкарауливает его. Но обдумывать это не было времени – Марина, совершенно трезвая, бодро шагала ему навстречу, улыбалась и, остановившись, наклонилась к его уху и этак заговорщически шепнула:
– Ты меня извини!
– За что? – краснея, ответил он.
– Да за многое! – ответила она, шагая с ним рядом в сторону, куда двигался он. – За то, что нетверезой была!
Рассмеялась как-то хорошо, искренне.
– За то, что мальца соблазнила!
Глебка поежился, но ничего не ответил – на них поглядывали ребята и девчонки и из других классов, и из Глебкиного, и хотя все знали, что Марина соломенная вдовушка Борика, и заподозрить ни в чем Глебку не могли, он испугался, как бы Маринины речи кто не услыхал.
Чем дальше от школы они удалялись, тем меньше соглядатаев оставалось. Наконец они остались одни. Глебка обернулся раз-другой.
– Вот-вот! – сказала Марина. – И я про то же. Единственное оправдание – что не поверят. Мальчику пятнадцать, а тетке – двадцать пять. Разница сумасшедшая. Но знаешь…