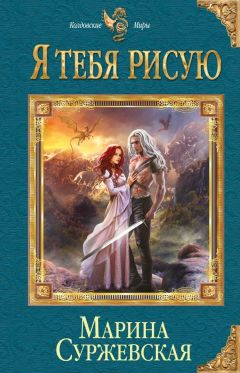Жак Шессе - Желтые глаза
Он остановился, нагнулся (мне даже стало стыдно, что я заставил его склониться перед собой в этой преданной позе, напомнившей мне карикатуры на евреев в антисемитских журналах эпохи моей юности) и открыл пакет. Я с любопытством наблюдал за его действиями.
– Извините меня, мсье, – сказал он почти без акцента, – я узнал вас в первый же день; я привез сюда с собой ваш последний роман о Санкт-Морице. Не могли бы вы мне подписать его?
Я молча подписал книгу; он кивнул мне, и я заметил в его глазах насмешку; он пересек салон и вышел в дверь тяжелым шагом. Воцарилось молчание. Я молчал. Мной словно что-то управляло. Мне стало нехорошо, вся былая печаль нахлынула в мою душу. Я пошел в бар и выпил несколько бокалов виски, разглядывая зеркала на веранде, пока они еще могли отражать меня, и заметил, что Анна и Луи спокойно прогуливаются в красивом парке.
II
Я не люблю февраль. Это унизительное время. Я боюсь оказаться в нем, раствориться в его холодах. Подражание нечистым. Культ мертвых снова преследовал меня весь месяц. Мы вернулись из Силя, и я больше не работал. Ни строчки. Ни единого исправления в отвергнутой издателем рукописи. Похожее на слизь небо. Хуже всего мне было восьмого числа, в первый день Поста, и я вновь блуждал. Умершие без пищи во время странствий, тошнотворная мягкость конца этой отвратительной зимы, грязные сугробы поверх гниющей листвы в садах и на могилах… Потом я мрачно выпивал стакан сивухи и опять отправлялся бродить – я проходил возле мест, где встречаются парочки, где расстаются любовники, возле мест, где собираются люди с потухшими глазами, впалой грудью, ввалившимися щеками… Утонувшие души. Настолько, насколько я любил снег, зеркала, отражающие светлые кроны деревьев, отголоски эха на равнинах, эффект, создаваемый отражением солнечных лучей, – а ведь размышлять – значит исповедоваться, сдавать экзамен на доверие самому себе, – я дорожил своим внутренним настроением, неотступно поселившимся теперь в моем разрушающемся теле. И воспоминаниями… Я вспоминал маленький автобус, который привез десяток слепых к проституткам в один из вечеров моих блужданий, они выстроились в цепочку и, ощупывая тротуар своими белыми палочками, двинулись вперед, потом остановились перед девочками, заговорили с ними, сделали еще несколько шагов, обмениваясь фразами, наконец, решились и зашли внутрь мерзкого здания. Я часами вновь и вновь вспоминал их точные жесты, пустые глаза, короткую грязную встречу в ледяной комнате…
С тех пор как в гостинице «Крона» в Силь-Мария я спустился в комнату для бильярда, чтобы понаблюдать за игрой нескольких чемпионов с мраморными от напряжения щеками, с того мгновения, когда над играющими в бридж парочками с прозрачными руками, склонившимися над картами, начали сгущаться первые сумерки, я находился в одном и том же состоянии: я желал, я, Александр Дюмюр. Рядом с желанием Луи, чье тело вновь притягивало меня. Действительно ли я усыновил его? Лучше было бы усыновить мотоциклиста из опасного квартала, с орлом из Скалистых гор на спине кожаной куртки и быстрого в сексе, вечно находящегося между собакой и волком. Писсуары рабочих кварталов! Силуэты бродяг, прячущихся позади ваших деревьев! Расшифровывая ваши граффити, однажды утром, посреди ужасного запаха и шума не перестающей течь в сломанном бачке воды, я услышал, как в соседней кабинке заперлись два призрака, один из них начал стонать, он стонал снова и снова; вдруг дверь приоткрылась, и на пороге кабинки появился согнувшийся силуэт; он распрямился, убежал, дверь хлопнула, соучастник тоже удалился, я едва успел заметить его лицо, которое мгновенно исчезло за эспланадой. Исчезнувший… Не уверен. «Ищу молодого человека 15-25 лет – сделаю все, что хочешь». О, этот язык желания, ключ к любому ожиданию, исступлению, влюбленности, непонятный рисунок; еще один рисунок, свидетельствующий о нетерпении, – «Да не прольешь ты семя понапрасну», – желание проникает через двери и стены, я узнаю его снова, узнаю в этих «мужчина ищет пару для совместного времяпрепровождения – оставьте свой номер телефона здесь»; и когда они, в свою очередь, покидают эспланаду, взгляды и одиночество недавних любовников ослепительно выделяются в сумерках.
Я спрашивал себя, продолжает ли Луи бродить невдалеке от этой западни. Я больше ничего не знал о нем. Непроницаемый. Он не разговаривал больше со мной. Ив Манюэль? К Анне я приближался теперь с постоянным страхом, что она оттолкнет меня. Я постоянно пил, борода моя была грязной, липкой, я опять перестал менять одежду. Анна обзывала меня старым козлом, а проститутки, к которым я зачастил, убегали от меня, когда я пытался их прижимать в уличных углах. В это время Анна и Луи…
Однажды я взял с собой рукопись, которую должен был отредактировать, и сжег ее в маленькой буковой роще позади Совабелена. Потом я бросил в огонь страницы моей новой книги, чтобы вес жертвы был значительнее. Потом сел на зеленую скамейку и стал блевать себе под ноги.
Когда много часов спустя я вернулся домой, я нашел на своем столе фотографию, на которой была изображена Анна в детстве – это была давнишняя классная фотография, уже пожелтевшая от времени. Я сразу же узнал на ней Анну в первом ряду, в школьном фартуке; ей, должно быть, недавно исполнилось семь лет, она улыбалась, у нее только что выпал зуб, и маленькая черная дырочка зияла между остальными зубами. Почему же эта дыра так привлекла мое внимание?
Позади класса – девочек в блузках и фартуках и мальчиков с голыми коленями – прямая как палка учительница с собранными в пучок волосами, большой грудью, положила руки на плечи стоявших перед ней мальчиков.
В глубине фотографии были запечатлены почти серые деревья в желтом тумане, а справа от группы школьников – стена здания с вывеской зала совета и канцелярии гражданского судьи. Кто ты, обладательница цветущей груди? Я никогда не видел тебя наяву и сожалею об этом, но – прости меня – не ты взволновала мое сердце при взгляде на фотографию. Это – одна из твоих учениц, маленькая Анна Мартренж, стоящая в первом ряду; смотри, фартук закрывает ее соски, она улыбается, и во рту у нее зияет дыра от выпавшего зуба. Семь лет? Сто лет? (Так же улыбаются мертвые, когда вскрывают их могилы.) Детство, вечность, в которой воспитательница возложила руки на плечи своих агнцев. Кто кого воспитывает? Кто выбирал ракурс? Анна улыбается. Это она. Я смотрю на то, как умирают и оживают одновременно семнадцать школьников и женщина, стоящие возле стены с табличками на фоне деревьев.
Был час ночи. В соседней комнате спала Анна, дальше – Луи. Я поднес фотографию к лампе, потом поставил ее на стол, впившись взглядом в маленькую девочку на переднем плане, в улыбке которой была смерть. В этот момент отвращение и страх заставили меня вздрогнуть. Печаль секунда за секундой накатывала на меня, я дрожал, я почувствовал, что приклеился к пути в преисподнюю. На прошлой неделе я остановил машину на дороге в Берн, чтобы послушать, как воют две бешеные лисы, воют, переговариваются, злятся и плачут, как демоны…
Нужно прекратить это. Я знаю как. Я умру. Остановлюсь в смерти. Нужно, чтобы я исчез, ибо я стал лишь грязным следом на этой благословенной земле. Все мы странники перед Тобой, гости, как и наши отцы. Наши дни как тень на земле, и нет надежды существовать здесь. О, ненадежность! Нет ни времени, ни уверенности. Мы опускаемся в могилу. Я блуждаю и не могу успокоиться. Да, и в этом – очередное крошечное доказательство гнева Предвечного!
III
Это было чудом или последней насмешкой, но в пятницу 10 марта в 9 часов 30 минут, сидя в «Лесном» кафе в Совабелене, спросив себя, что я делаю здесь в утренний час раннего весеннего дня, я вдруг выхватил из кармана ручку и перевернул лежавшее на столе меню. На его обратной стороне я написал стихотворение, которое привожу ниже; не было ли его написание последней попыткой внушить себе строгость, которой начисто были лишены мои поступки? Вот текст этого стихотворения без изменений:
ПОЭМА 10 МАРТА 1978 ГОДА
Да наши дни как тень на земле
Нет на земле надежды
Но мы укрепляем мозг и нервы
Укрепляем
Да мы здесь гости мы проклятые
Но мы дорожим этим днем
И ничто в мире не заставит нас измениться
Да мы летим на грязь будто мухи
Мы питаемся ей
Мы созданы такими свыше
Мы не можем измениться
Виновны ли мы в том что нас сотворили такими
Виноваты ль в своих поступках
Способны ли мы исправиться
Мы похожи, похожи на крыс
И мы наслаждаемся этим
Возблагодарим Господа
А кости ждут под нашей нежной плотью.
Написав стихотворение, я почувствовал себя лучше, словно ко мне вернулась какая-то часть былого достоинства. Я перечитал текст, подписал и спрятал листок, на лицевой стороне которого была расписана карта блюд; счастливое соседство в пустом портфеле, куда я раньше по несколько раз в день бросал страницы с заметками, фрагментами новелл или сценами романа, неожиданно появлявшимися у меня в голове во время моих блужданий или простого бодрствования. Тогда судьба благоволила ко мне. Теперь я был похож на человека, однажды увиденного через окно в одной из палат кантональной больницы, где я навещал консьержа, работавшего в нашем доме. Тошнотворный запах больничного белья заставил меня отойти к окну, что было абсолютно бесполезно, поскольку рамы были заперты. Однако сквозь стекло я увидел зрелище, перевернувшее во мне все, ибо в нем я прочитал и намек на собственную судьбу. Прямо подо мной, у террасы нового здания, возле которой пробивались прямые зеленые травинки, стоял тип в оранжевой тужурке и копал яму, которая тут же навела меня на мысль о могиле. Но до чего же абсурдной была эта сцена! Выброшенная из ямы земля была удивительно черной, из-за ветра и дождя оранжевая тужурка прилипала к телу копавшего человека, который, казалось, сражается с основами бытия. Может быть, он хотел посадить дерево? Но он явно не грезил. Он работал слишком долго, чтобы находиться в каком-то полусне. Но почему именно там? Под этими не открывающимися окнами? И вооруженная лопатой марионетка копает яму, изредка проверяя, насколько глубокой она получается… Я разозлился на этого идиота, в котором узнал карикатуру на себя самого, и вернулся к койке диабетика-консьержа, пытаясь скрыть свое волнение. Мне решительно опротивел вид этой койки. Гангрена поражает ногу, тело раздувается, чернеет, и добрый человек, сбросив одеяло, дрожа от ужаса, рассказывает мне с важным видом, что ногу скоро отрежут. Я убежал оттуда, к горлу подкатывала тошнота; я так и не выпил стакан вина, который он предлагал мне поднять за встречу.