Ванесса Диффенбах - Язык цветов
– Выглядишь мило, – сказал он.
– Спасибо. – Я бы тоже сделала ему комплимент, но было не за что. Он все утро работал: это было видно по запачканным коленям и мокрой глине на ботинках. И пахло от него не цветами, а грязным человеческим телом: на треть потом, на треть дымом и на треть землей.
– Я не переоделся, – сказал он, вдруг устыдившись своего внешнего вида. – Надо было.
– Неважно, – сказала я. Мне хотелось, чтобы это прозвучало по-доброму, но получилось равнодушно. Лицо Гранта поникло, и я вдруг разозлилась – не на него, а на себя за то, что так и не научилась вкладывать в тон голоса нужные ноты. Я подошла к нему на шаг – неловкая попытка извиниться.
– Знаю, – ответил он. – Но я зашел, только чтобы отдать тебе цветы – для твоей знакомой. – Он опустил коробку, и я увидела шесть керамических горшочков с жонкилиями, чьи желтые цветы бодро тянулись к небу, раскрываясь из сердцевины. От них исходила головокружительная сладость.
Я потянулась и достала горшки, попытавшись взять все шесть в охапку. Мне хотелось захлебнуться в этих желтых лепестках. Я зарылась носом в лепестки. Лишь секунду они были у меня в руках, а потом центральные два выскользнули и упали на тротуар. Посыпались осколки, луковицы вывалились, а стебли согнулись под неестественным углом. Грант встал на колени и стал собирать цветы.
Я прижимала к груди выжившие четыре горшка, опустив их так, чтобы наблюдать за ним из-за соцветий. Зажав луковицы в сильных ладонях, он распрямил стебли и обвил их длинными заостренными листьями в тех местах, где они согнулись и ослабли.
– Куда поставить? – спросил он и посмотрел на меня.
Я присела на колени:
– Сюда. – Я велела положить цветы поверх тех, что держала. Он раздвинул стебли и положил луковицы на землю горшка, сломанные цветы среди живых. Руки он не убрал. Он дышал медленно и ровно, и я поняла, что он собирается уходить.
Тогда я разомкнула руки, и горшки сползли с моих колен, как в замедленной съемке, опустившись на наклонный тротуар. Руки Гранта упали мне на колени. Я взяла их и поднесла к лицу, прижала к губам, щекам и векам. Положила его руки себе на шею и притянула его ближе. Наши лбы соприкоснулись. Я закрыла глаза, и мы поцеловались. Его губы были полными и мягкими, хотя верхняя меня царапала. Он затаил дыхание, и я поцеловала его снова, на этот раз сильнее, как голодный набрасывается на еду. Я ползла по тротуару на коленях, опрокидывая цветочные горшки и желая быть ближе к Гранту, целовать его крепче, дольше, желая показать, как мне его не хватало.
Когда мы наконец разомкнули губы, то увидели, что один из горшков скатился вниз по склону. Цветок торчал из него прямо, высоко, и почти ослеплял желтизной в свете зимнего солнца.
Что, если я ошиблась, подумала я, глядя, как соцветия колышутся на ветру. Что, если суть и смысл каждого цветка содержатся в самом его крепком стебле, в нежном букете из лепестков?
Аннемари понравятся жонкилии, я была в этом уверена.
14Сидя на крыльце, я просеивала сквозь пальцы горстку крошечных цветков ромашки. Пятифутовые бусы соединяли нас с Элизабет; с обеих концов была иголка. Мы работали быстро, втыкая иглу в мягкую желтую сердцевину и сдвигая цветы к центру. Через каждые несколько минут меня отвлекало какое-нибудь насекомое или деревянная щепка, но Элизабет не делала пауз. Через час все было готово, и нас соединила нежная, унизанная цветами нить.
– Значение? – спросила я.
Элизабет согнулась пополам, нанизывая на конец бус квадратный листок бумаги. Я разглядела слово «август» и цифру «2», а также многократно повторявшееся слово «молю» и фразу, которая поразила меня своей лживостью: «Без тебя я не смогу».
Элизабет свернула цветочную нить в кольцо:
– Сила для преодоления препятствий.
Ничто не передавало ее нынешнее настроение точнее ромашек. С тех пор как Элизабет решила общаться с сестрой посредством языка цветов, она постоянно что-то делала: сажала семена, поливала их, проверяла, как ведут себя полураскрывшиеся бутоны, и ждала, ждала ответа, причем даже ожидание было деятельным, динамичным, с непрерывным хождением по дому.
– Пойдем, – сказала она, села в фургон и положила между сиденьями бусы из ромашек.
Мы поехали к Кэтрин. Выпрыгнув из машины, Элизабет, не выключая мотор, обвила цветочной нитью деревянный столбик почтового ящика и сунула в ящик записку. Потом вернулась в фургон и двинулась по дороге дальше, в противоположную винограднику сторону.
– Куда мы едем? – спросила я.
– В магазин, – ответила Элизабет. Ветер развевал ее волосы, и она раздраженно стянула их резинкой, зажав коленями руль. А потом хитро мне улыбнулась.
– В какой? – спросила я. Меньше чем в миле от нас был супермаркет, где Элизабет купила мне осеннюю куртку и ботинки для работы в саду, но мы ехали совсем в другую сторону.
– На Честнат-стрит, – сказала она, – в Сан-Франциско. Там целая улица детских бутиков, тех, где продаются бархатные комбинезончики для новорожденных за двести долларов и бальные платья для грудничков из шелковой органзы. Такая вот чепуха. Одно только платье на день твоего удочерения обойдется мне как две тонны винограда – но такой случай бывает раз в жизни. Тебе десять лет, и на следующей неделе ты станешь моей маленькой дочуркой, но тебе недолго осталось быть маленькой. Поэтому, пока могу, буду наряжать тебя в пух и прах. – Она снова улыбнулась, и эта улыбка была приглашением.
Я придвинулась ближе и положила ей голову на плечо. Элизабет научила меня сидеть в машине прямо и подальше от нее, чтобы нас не остановили за нарушение закона об использовании ремней безопасности, но сегодня, говорила ее улыбка, можно было сделать исключение. Она ехала, опустив на руль одну руку, а другой обнимая меня и крепко прижимая к себе. Меня никогда не возили в магазин за новой одеждой, ни разу, и мне казалось, что лучшего способа начать новую жизнь и не придумаешь. Мы ехали через мост по направлению к городу, я подпевала старым песенкам по радио, и мы обе боролись с противоречивыми чувствами: хотели, чтобы день длился вечно, но одновременно кончился побыстрее, и два следующих дня тоже. До визита в суд оставалось всего два дня.
На Честнат-стрит Элизабет припарковалась, и я вошла за ней в открытую дверь. В магазине не было никого, кроме продавщицы, которая стояла за стеклянным прилавком и украшала бриллиантовыми клипсами деревце из фетра.
– Чем могу помочь? – спросила она и улыбнулась, как мне показалось, с искренним интересом. – Ищете что-то особенное?
– Да, – ответила Элизабет. – Платье для Виктории.
– Сколько же тебе лет, лапочка? Семь? Восемь?
– Десять.
Девушка смутилась, но ее слова меня не обидели.
– А ведь меня предупреждали никогда не пытаться угадать возраст, – сказала она. – Пойдемте покажу, что у нас есть вашего размера.
Я пошла за ней в дальний зал, где напротив зеркала с деревянным балетным станком висели платья. Элизабет встала у станка и сделала низкое плие, раздвинув колени и стопы в стороны. Она была худой и острокостной, как настоящая балерина, но ее движения нельзя было даже близко назвать изящными. Мы обе рассмеялись.
Я перебрала все платья раз, потом второй.
– Если ничего не нравится, – сказала Элизабет, – пойдем в другой магазин.
Но проблема была не в этом. Мне нравились все эти платья – все до единого. Я ухватилась за бархатные ленты одного из них и, стянув платье с вешалки, приложила к себе. Оно было всего лишь восьмого размера, но длиной мне ниже колен. Светло-голубой верх от узорчатой юбки отделяла коричневая бархатная лента, завязывающаяся сзади бантом. Но больше всего мне понравился рисунок широкой юбки: коричневые бархатные цветы на голубом фоне. Концентрические лепестки напоминали махровые розы или хризантемы. Я взглянула на Элизабет.
– Примерь, – велела она.
В маленькой примерочной я разделась. Стоя перед зеркалом в белых хлопчатобумажных трусах – Элизабет сидела сзади, – я оглядела свое бледное отражение. Моя кожа была светлой, без родинок, талия невыраженная, бедра узкие. Элизабет смотрела на меня так гордо, словно я была ее биологическим ребенком и все мои конечности появились из ее собственного живота.
– Руки подними, – скомандовала она и надела на меня платье через голову. Потом завязала ленты на шее и на поясе. Платье село идеально. Я смотрела на себя, неуклюже раскинув руки по сторонам от пышной юбки.
Я поймала взгляд Элизабет, ее лицо выражало столько чувств одновременно, что я не могла понять, заплачет она сейчас или засмеется. Она обняла меня, схватив за подмышки и прижав ладони к груди. Я уткнулась затылком ей в живот.
– Ты только посмотри на себя, – прошептала она. – Моя малышка.
И в тот момент я по необъяснимой причине поверила ее словам. Действительно, у меня возникло смутное чувство, что мне очень мало лет, я почувствовала себя почти новорожденной, которую обнимают и баюкают. Словно детство, что я прожила, принадлежало кому-то другому, ребенку, которого больше не существовало. Теперь вместо него была эта девочка в зеркале.


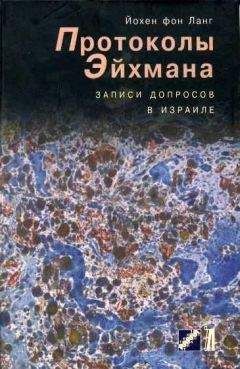
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)
