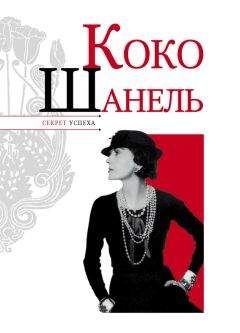Эдуард Лимонов - Контрольный выстрел
БЕГУЩИЕ ЭСТЕТИКИ СОВРЕМЕННОСТИ
В самом начале жизненного пути я эстетически пристраивался к модным веяниям эпох, через которые жил, и менял свою эстетику в соответствии с требованиями времени.
Я родился давно. Когда ещё был жив Адольф Гитлер. Правда только что тогда случился Сталинградский разгром армии Паулюса, на той стороне Волги виднелась немецким солдатам Азия. Вверх по Волге они летали нас бомбить и мать помещала меня в ящик из-под снарядов и задвигала под стол, отец усилил стол досками. Так что колыбель у меня был снарядный ящик в городе Дзержинске. Задвинув меня под стол мать убегала на завод изготавливать бомбы и снаряды.
Под завязку "Великой Эпохи" в начале пятидесятых годов я был смазливый маленький мальчик в коротких штанишках на помочах, остриженный под ноль как Zoldaten. Сохранилась фотография. Я похож на юного тощего еврейчика. Темноглазый какой-то. Стою в углу. Что до штанишек, то история умалчивает, были ли это оригинальные трофейные немецкие штанишки, снятые с гитлер-югендовца или уже сшитые моей матерью по выкройке снятой с трофейных. Я был в этих штанишках сверхсовременен. Обычный детский послевоенный контингент носил длинные штаны мешками. Короткие — придавали мне европейский лоск. Правда эту эстетику гитлер-югенда выбрала мне мама. Мои сверстники — Джордж Харрисон, с этим мы родились с разницей в два года, Мик Джагер или Дейвид Боуи, я видел во французских книжках о них, в те послевоенные годы выглядели как я, или я выглядел как они. Так что мама соблюдала общеевропейскую мальчиковую моду своего времени.
В пятнадцать я был дерзким отроком. Я стригся коротко, выбривал пробор, носил широкие короткие чешские пальто на трёх пуговицах с рукавом реглан. Или жёлтую куртку. Я увековечил это сооружение из обивочной ткани в книге "Подросток Савенко". Вот эту эстетику выбирал уже я сам. Правда, когда я окончил школу мне пришлось потеснить эту свою восточно-европейскую эстетику (пальто было чешское, а стриг меня парикмахер-поляк) русской пролетарской. Осенью 1960-го, монтажником-высотником семнадцати лет ездил я на работу в морозных трамваях этаким тамплиером пролетариата: в солдатских сапогах и фуфайке, подобной той, в которой сейчас сижу в камере 22/23 и пишу эти строки. На голове у меня была отцовская военная шапка. Помню однажды, спустившись с колбасы трамвая в таком виде я столкнулся на одной из остановок с влюблённой в меня в школе красивой губастой девочкой Олей Олянич, в компании её старшего брата. Я шокировал Олю и разочаровал. "Мы думали ты в литературный институт поступишь… Ты же стихи писал", — мямлила она. Хорошо ещё, что трамвай наконец поехал дальше и я занял место на колбасе. (Признаюсь здесь в слабости. Встреча эта не прошла для меня безнаказанной. Вскоре я уволился из строительно-монтажного треста и завода имени Малышева. Виновата Оля Олянич.)
Осень 1961 обнаружила меня в том же коротком модном пальто, куда я спасительно нырнул опять, в том же в котором ходил в пятнадцать, уже в потёртом. Я стал посещать в нём жаркие классы кулинарного училища. Пальто, я не сообщил, было тёмно-коричневое. Брюки мои были такие узкие, что нога с большим трудом протискивалась в штанину. Очевидно я был тщеславен и хотел быть заметен. В осень 1961 и весну 1962 года в городе Харькове таких как я было немного… В кулинарном училище был ещё только один, с отделения официантов, но он был попроще. Собственно говоря, поступая в училище, я хотел стать официантом ("Иди Эд, в халдеи там всегда будешь с бабками!", — поощрял меня мясник Саня Красный, мой старший друг. Это была его идея). Но набор в официанты, оказалось был уже закончен, пришлось идти на отделение, которое готовило поваров. Училище при всей своей социальной ничтожности располагалось в самом центре города на Сумской улице, напротив «Зеркальной» струи в лабиринте одноэтажных флигельков, наискосок от театрального института. Что делал в это время в Ливерпуле Джордж Харрисон, возможно продавал мороженое или был учеником слесаря, я не помню, но он уже держал гитару, а я с 1958 года писал стихи.
Меня дёргало в конвульсиях, я никак не мог выбрать стиль современности, т. е. никак не мог выбрать какой будет моя жизнь. Потому в течении следующих нескольких лет мне не раз ещё пришлось совершать радикальные переодевания: то тамплиер пролетариата, то жёлтая куртка, то белые джинсы. Впоследствии подобные резкие скачки амплитуды колебания стиля стали характерными для моей жизни.
В 1963–1964 годах я работяга-литейщик, в три смены загружаю печи, пью солёную газировку, исповедую философию рабочего класса. Настроение, — как у рекрута едущего на работу. (Читатель смотри "Ангелов Ада и Адама Смита"). К осени 1964 года у меня однако огромный гардероб — шесть костюмов, три пальто, каждую субботу, — молодые рабочие мы посещаем ресторан «Кристалл» с нашими девушками. Короче была этакая атмосфера американских фильмов о рабочем классе. Джордж Харрисон уже выступает в «Пирамиде», "Биттлз" уже начинают становиться очень известными. В октябре 1964 года судьба закручивает меня в воронку и швыряет в харьковскую богему — я молодой сожитель еврейской девушки старше меня на шесть лет. Вино, стихи, книги. Эстетика меняется и оформляется соответствующим с жанром bildungsroman, романа о воспитании, рабочий парень спешно переделывается в молодого интеллектуала и поэта.
Следующий этап bildungsroman: сцена 30 сентября 1967 года: молодой поэт приземляется на Курском вокзале в Москве с большим чемоданом. Одет он, правда, в обноски эстетики прошлого периода на мне чёрное длинное ратиновое пальто, чёрная кепка аэродром (портной был — армянин) американские сапоги, чёрные брюки и жилет. К Че Геваре в джунглях Боливии уже приближался в эти дни его смертный час. В Китае, второй год по зову Мао вовсю бушевали хунвейбины: миллионы детей и старших школьников. В следующем году взорвётся молодёжь в Европе: в Праге и Париже, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе уже бродят хиппи, возникшие первые (?) в калифорнии и в берлине. Популярны: Тимоти (?) пророк ЛСД, философ Герберт Маркузе, писатель-мистик Кастанеда. Парижский и берлинский молодёжные бунты оставляют миру имена рыжего Даниэля Кон-Бендита и Руди Дучке.
В Москву я попал в среду художников нон-конформистов. Пил вино у Соостера похмелялся у Кабанова, спал у Бачурина, спорил с Ворошиловым, шил штаны Эрнсту Неизвестному. В 1971 году, когда у поэта Сапгира в доме я познакомился с будущей героиней книги "Это я, Эдичка" я представлял из себя двадцативосьмилетнего парня в красной рубахе и белых джинсах, очень загорелого, мускулистого, уже известного как автора своеобразных стихов. Она была тоненькой, ещё 20-летней девочкой, стоящей на пороге 21 года, женой богатого московского художника и дельца. Она носила очень короткие платья, была как две капли воды похожа на девочку из западных модных журналов, и более того, была значительно лучше девочек из таких журналов. Муж Виктор, старше её на 27 лет, лыс, в очках в золотой оправе, носил «клубный» пиджак и серые брюки. Обожал девочку-жену. Елена писала тихи — какие пишут богатые девочки, любила бухать малиновый джин, и мы влюбились друг в друга. Оглядываясь назад, вижу, что при всей своей оригинальности, я и она были вполне современные молодые люди, правда в контексте России мы опередили общую современность лет на двадцать, я полагаю. С того времени и начинается мой сдвиг по фазе, с тех пор я неизменно тороплюсь, живу вперёд и попадаю из-за этого в трагические ситуации, так как оказываюсь чужеродным своей эпохе. В 1974 году мы перемещаемся в Европу. В Италии разгар терроризма, левого и правого. "Красные бригады" и "Чёрный орден" — названия этих организаций не сходят со страниц газет. 18 февраля 1975 года Мара Кагуль с пятью вооружёнными товарищами освобождает своего мужа Ренато Курчио (лидера "Красных бригад") из тюрьмы. В этот день мы с Еленой летим в штаты. Багаж раскладывают на лётном поле, опасаясь что в самолёте «Панам» — бомба. Осенью 1975 убивают Пазолини.
В 1976, в феврале мрачно выглядящий эмигрант 33-х лет, в тонком кожаном пальто, длинные запущенные волосы и некая усталая печаль во всём облике, я становлюсь добычей своей самки. Ужалив меня и обливаясь слезами Елена уходит в мир. Вот в этот-то момент, подвергшись бесчисленным унижениям, весной 1976 года я превращаюсь впервые в того человека, который сейчас, через четверть века, сидит в камере 22/23 и пишет. На самом деле, унижения — это сильнейший стимул, шоковая терапия для людей высокого предназначения. Унижения выводят их из состояния отупления и бессмысленности или малосмысленности, в которой пребывают обычные экземпляры человечества и вынуждают на подвиги. Унижения, которым подвергся бродяжка Гитлер в юные годы в вене, пробудили его, его постигло озарение. Подобное же озарение испытал и я 4 марта 1976 года. Озарение — это момент, когда становится ясна природа человека и своя собственная судьба, когда открыто будущее. Только часть из знания и предвидения данных мне озарением я использовал в книгах "Это я, Эдичка" и "Дневник Неудачника".