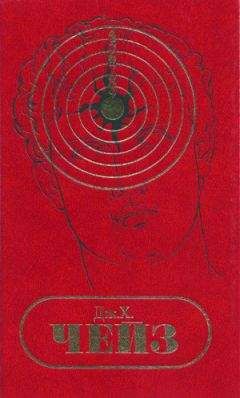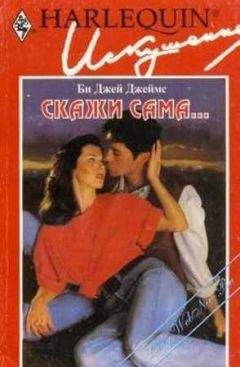Джеймс Мик - Декрет о народной любви
Никогда прежде не приходилось Муцу чувствовать себя столь же гадко, как после исповеди Балашова. Поежился, невольно вообразив, как лезвие отсекает мешочек его собственной плоти между ног.
Встал, размял пальцы, огляделся, не понимая, что ищет. Взмок от пота, несколько раз с трудом сглотнул подступивший к горлу тошнотворный ком.
Нужно пойти переговорить с Анной Петровной, но мысль о том, что придется снова увидеть лицо этой ведьмы, — невыносима… Стоило мысленно докончить фразу, будто пришедшую с неизведанных территорий внутри его мозга, как на теле выступил холодный пот; лицо этой ведьмы…
Тотчас первые проблески ярости, вспыхнувшей внутри, окутали, сбили с ног, повалив на диван, и не шевельнуться, а кожа, всё тело горит гневом. Еще не набрала силу злость на самого себя, что не догадался тотчас же: здесь община скопцов, кастратов. Бешенство, порожденное дремучим, первобытным невежеством Балашова, мальчишеской выходкой, невозможностью того, чтобы человек, обладающий здравым рассудком, как Муц, когда-либо решился объединить две противоположные крайности — тягчайшие увечье и боль и нелепейшую из всех шуток, какие только может проделать над собственным телом человек, — воедино. Негодование на самообман и наивность Анны Петровны, положившейся на здравомыслие богобоязненного кавалергарда и отпустившей мужа воевать. Сильнее всего сердило себялюбие женщины, отправившейся следом за безумцем на край света, точно Анна и Глеб до сих пор могли называться супругами, отчего Алеша томился в бессмысленной ссылке, и расчетливость женщины, вытянувшей прямо под носом Муца, поверившего в любовь, туза своего, козырного евнуха, точно объясняя хотя бы отчасти внезапную холодность в отношениях.
Хотелось что-нибудь разрушить. Более нет смысла задерживаться. Захлопнув за собой парадную дверь, зашагал по дороге к мостику. Не дойдя, стиснул ствол рябинки, что росла вместе с другими деревцами как раз у переправы, и долго, с рыданиями тряс, покуда не попадали вокруг в мокрую траву ягоды.
Треснула ветка, и резкость звука заставила припомнить, для чего приходил к Анне Петровне. Тот убийца и вор, о котором говорил Самарин! Людоед!
Зашагал обратно. Снова залаяла прежняя собака, Муц припомнил, как всего лишь час назад точно так же колебался, прежде чем войти, вспомнил смесь опасений и надежд и то, как совсем забыл о преступнике.
Отчего же? И тотчас закаменело внутри: да оттого, что думал тем же органом, которого лишился Балашов. А когда не веришь ни в Бога, ни в черта — чем хуже подчиниться желанию? Кто же посадил на цепь его?
И Муц, теперь укрощенный, смирный, прокрался через парадный вход, достал ключ из висевшего снаружи замка, запер снаружи дверь и протолкнул ключ в просвет под створкою. Обошел строение, направляясь к задворкам. Заглянул в кухонное оконце.
Анна Петровна спала, положив голову на стол. Мысль о том, чтобы разбудить, даже не приходила в голову. Пожалуй, он любит ее любовью, никоим образом не связанной с тем, на что подбивают чресла. Но кто может знать наверное?
Дошел до ворот, закрыл проем на щеколду, а после растянулся на соломе, окруженный теплой вонью хлева.
Конечно, именно Балашова заботила судьба Анны Петровны. Черт подери, она же ему жена… Заботливый.
Означает ли забота любовь? Что теперь проку Анне Петровне от любви мужа? Удар ножа устроил развод скорее любого стряпчего. Да и дешевле обошлось.
Муц почувствовал, как улыбается. На мгновение ощутил к себе гадливость, но тотчас же заметил: улыбается, значит, отвращение и ненависть к Балашову сменились сочувствием. Глебу, со всей его чертовой паствой увечных ангелов, требуется только одно: покой. Вероятно, над морем безумия, разлившемся в мозгу мужа Анны Петровны, возвышалось несколько островков человечности… кто знает, не было ли то чувство долга? Муц сможет добраться до остатков рассудка, он будет стараться. В конце концов, так ли уж нелепо полагать, что именно Балашов препятствует Анне Петровне и Алеше уехать вместе с ним? Придется переговорить с Глебом, разъяснить: скопец должен уговорить жену и сына оставить город и более не возвращаться. Балашов поймет. Доводы Муца совпадут с логикой безумия, объявшего бывшего кавалергарда.
И тогда останется лишь уговорить Матулу избавить подчиненных от его военачальницкой мании, после чего начнется исход во Владивосток. План нелегкий, но ясный.
Чехов он Матуле не оставит. Они ему соплеменники… даже если сами солдаты и офицеры полагают иначе.
Офицер заснул.
Матула
Земский начальник в Языке, Виктор Тимофеевич Скачков, в одиночестве завтракал в столовой, как вдруг наверху трижды вскрикнула супруга, с каждым разом поминая имя Божье всё громогласнее и громогласнее, а после, испустив длинную руладу, переходящую от высоких тонов к низким, и вовсе блаженно заворковала, точно лепечущий младенец. Звуки разносились по всему дому.
Хозяин ловко кусил насаженную на вилку котлету.
Когда Елизавета Тимуровна утихла, в столовой было светло и спокойно: открытые окна, кружение пылинок в солнечных лучах, тиканье ходиков, шорох платья: служанка, Пелагея Федотовна Филиппенко, разливала чай.
— Стыд-то какой, — прошептала молодуха.
Мужчина пил, не прихлебывая. Жевал, закрыв рот, а столовыми приборами орудовал так, что они не звякали о фарфоровую тарелку. Беззвучно священнодействовал.
— Доброе утро, Виктор Тимофеевич, — поприветствовал земского начальника Муц, стоя в дверном проеме. — И вам, Пелагея Федотовна, доброго утра. Капитан Матула просил нас составить ему компанию за завтраком.
Земский голова продолжал трапезу, точно не слыша, и смотрел в некую точку в середине длинного стола.
— Что ж, садитесь, ежели так, — пригласила гостей Пелагея Федотовна.
Поблагодарив, Муц вошел в дом вместе с двумя офицерами-чехами — Дезортом и Климентом.
— Зажарьте нам, пожалуйста, картошки с ветчиной и копченым сыром, — попросил у кухарки откинувшийся на спинку стула Климент.
— Ишь чего в башку взбрело! — возмутилась служанка. — Вот вам котлеты с кашей, хлеб да чай. Небось не у себя в Карсбадах.
— Ах, если бы я смог отвезти вас в этот дивный город Карлсбад! — произнес Климент, отщипнув хлеба и кладя кусок в рот. — Платье синее бы вам купил. Как прелестно вы бы смотрелись…
— Отчего ж синее? — поинтересовалась Пелагея Федотовна, расставляя офицерам посуду.
— С бриллиантами, — продолжал Климент.
— Прям не знаю, чего я там такого не видела в этом вашем Карсбаде, в европах ваших.
— И вот вы, в синем платье, с бриллиантами, спускаетесь по лестнице в отеле «Бристоль», а все благородные дамы и господа недоумевают: кто же эта интригующая русская красавица? Уж не принцесса ли, или новая пассия Дягилева?
— Ишь разошелся! — фыркнула Пелагея. — Ври больше! И отчего ж синее? Почему ж, для примера, не желтое?
Климент с Дезортом рассмеялись, а служанка, покраснев, велела перестать, вот осрамить ее удумали, бесстыдники, ох и охальники, уж она им припомнит…
— Мне случалось бывать в Карлсбаде, — произнес земский начальник.
Присутствовавшие забыли, что хозяин дома не был частью обстановки, и движениям Виктора Тимофеевича и потреблению им пищи значения придавали не более, нежели тиканью часов.
Продолжил:
— Помнится, в некоем варьете смотрел негритянку в белом, утверждавшую, будто способна разговаривать с самим сатаною, однако же то был трюк, на нас он не произвел решительно никакого впечатления, тривиальнейший разговор на два голоса: один — крайне тонкий, а другой — бас, как у медведя. Хотела запугать, а мы не испугались, хотя, спору нет, женщина та вступала в сношения с нечистым, оттого-то и держал я руку на рукояти карманного револьвера. Помню, кормили прескверно. Форель у них пресная, не то что наша. Большая красная рыба, вот как этот стол, а сочная — что твоя оленина.
— Вы правы, ваше превосходительство, рыба здесь отменная, — подтвердил Муц.
Офицеры неотрывно смотрели на тарелки, куда принялась раскладывать серую массу Пелагея Федотовна.
Дезорт откашлялся. Климент принялся тихо напевать себе под нос и глянул на служанку, когда та наклонилась над его прибором. Моргнул, скорбно поджал губы, стрельнул глазами на женскую грудь…
Вновь заговорил земский начальник — мерно, невыразительно, не поднимая взгляда:
— Мы пошли в казино, принялись играть в рулетку, покуда я не спустил все деньги, что были при мне. Поставил две запонки на красное, и крупье достал из шкатулки еще пару, так что вышло, будто у меня четыре запонки. Те, что выиграл, по форме походили на якоря.
Крупье сказал, шкатулка принадлежала русскому. Я посоветовал супруге поставить кольцо на любую цифру, и если она угадает, то ей дадут тридцать шесть колец. Но жена моя играть не стала. Оставила кольцо при себе, то, что я купил у ювелира на Невском проспекте за пятьсот рублей, пять бриллиантов вокруг изумруда. Кольцо у нее осталось. А после я и запонки проиграл.