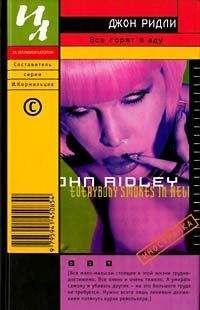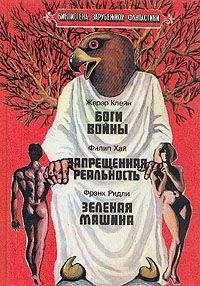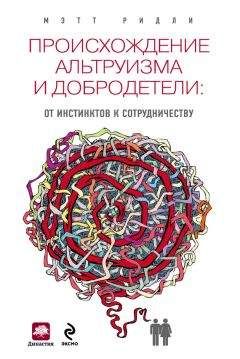Джон Ридли - Путь к славе, или Разговоры с Манном
— Не смей так говорить про него! — Впервые с той минуты, как я переступил порог, сколько я ни держал себя в руках, отцу все-таки удалось меня взвинтить. Мне было наплевать на все, что он нес про меня. Ему уже нечего было прибавить к тому разбухшему фолианту, который он написал за всю жизнь. Но наговаривать на Сида я позволить ему не мог. — Он — человек, в отличие от тебя. Он — человек, порядочный человек, и тебе до него еще черт знает сколько…
— Получай, черномазая задница! — Отец кинулся ко мне; ложка, завершив превращение из столового прибора в оружие, была зажата у него в руке. При всей своей злости, выпад отец сделал слабый: это было неловкое и несуразное нападение беспросветного пьяницы и наркомана, и замедленные движения казались преувеличенными. Мне не составило никакого труда увернуться и ухватить его за плечо. Еще меньше усилий понадобилось на то, чтобы оттолкнуть его. Настолько мало, что та минимальная энергия, которую я вложил в свою защиту, отправила отца на пол.
Не то чтобы я внезапно сделался силачом, эдаким Геркулесом, и решил дать отпор распоясавшемуся хулигану. Просто я перестал быть ребенком. И точно так же, как я больше не верил, что у меня под кроватью живут сказочные чудовища, я знал, что мой отец — никакой не демон, а всего лишь безрадостный старик, который больше не имеет надо мной никакой власти.
Он посмотрел на меня с пола прибитым взглядом, в котором сквозила не просто физическая боль — она-то была невелика. Его отпрыск — его детеныш-слабак — швырнул его на пол. Если у отца и оставалось еще хоть какое-то мужество, то оно только что было растоптано.
Я сказал ему, четко произнося слова, как разговаривают обычно с животным, которое неспособно понимать твой язык:
— Сид нашел мне работу в клубах. Я уезжаю с ним на гастроли. Буду присылать тебе деньги на квартиру, на еду. Можешь тратить их на выпивку. На что угодно. Мне безразлично. Уже безразлично. Но я уезжаю, пап. Уезжаю от тебя.
В последний раз, когда я сообщил ему, что уезжаю по своим делам, я провел ночь лежа на полу — отлупленный ремнем, весь в крови — и выскользнул тайком, пока отец был в отключке. На этот раз я спокойно упакую вещи и выйду за порог здоровым, отдохнувшим и морально готовым.
* * *Идея нарядно одеться и отправиться в клуб, чтобы поужинать и посмотреть шоу, похоронена на том же кладбище, что и решение не покупать машину, потому что у нее недостаточно большой киль.
Но были времена…
Но были времена, когда мужчина надевал блестящий костюм, его дама сооружала себе начес на голове, нацепляла жемчуга, и они вдвоем отправлялись провести вечер за взрослыми развлечениями. Это означало, что они ели бифштексы, выпивали несколько бокалов вина и курили, а потом смотрели выступление какой-нибудь знаменитости с такого близкого расстояния, что им приходилось уворачиваться от капель пота, слетавших с трудолюбивого тела эстрадной звезды, которая выкладывалась, выкладывалась и выкладывалась на сцене до такой степени, что потом просто ничего больше не оставалось, кроме как вскочить с места и захлопать.
И вдруг я стал частью этого мира. Сид подергал за свои веревочки, и я вошел в эту Красивую Жизнь, начав выступать перед программами знаменитостей, которых раньше видел не ближе, чем на экране телевизора.
Первая неделя: Клуб «500» в Атлантик-Сити, выступаю перед Бадди Греко. Хороший парень. Классный парень. Парень, просто не умевший устраивать шоу меньше, чем на сто процентов. Сид решил, что Джерси — подходящее место для начала турне: далеко от Нью-Йорка, от Виллиджа с его виллиджской кликой и кафешным антуражем, но вместе с тем достаточно близко от него, чтобы здесь все еще имелась «моя» публика, те люди, для которых я острил с той самой поры, как впервые вышел на сцену, с небольшой примесью пляжных туристов, по реакции которых я мог судить, что годится, а от чего лучше отказаться.
Сид поехал со мной — он собирался сопровождать меня во время всего турне. Он сказал мне, что хочет отдохнуть от своей конторы, что время от времени надо самому за руку здороваться с владельцами приглашающих клубов. Подспудная истина: он поехал не здороваться за руку с кем бы то ни было, а держать за руку — меня. Он отправился в эту поездку, чтоб быть уверенным, что со мной все в порядке.
Но мне не нужен был опекун. Я был профессионалом. Три бумажки в неделю, которые я зарабатывал, ясно говорили об этом. Конечно, было чему еще учиться. Я научился тому, что, выступая на разогреве, ты должен завоевывать публику, причем очень быстро, и больше не отпускать. Ведь эти люди в пиджаках платили не за то, чтобы увидеть тебя, — скорее всего, о тебе они даже не слышали, знать про тебя ничего не хотели (ВАС БУДЕТ СМЕШИТЬ ЗАЕЗЖИЙ КОМИК — так было напечатано про меня в одной из афишек). Ты разогревал публику, а значит, просто позволял ей начать переваривать омара с подливкой и тертым сыром, прежде чем грянет настоящее представление. Все это работало против тебя, и нельзя было расслабляться и по привычке тянуть с лучшими номерами. Все номера должны были быть отменными, причем начиная с твоего первого слова, — иначе следующие двадцать минут тебе предстояло распинаться перед двумя сотнями людей, которые будут лишь изредка бросать на тебя небрежные взгляды между попытками привлечь внимание официантки, чтобы заказать новую порцию спиртного.
Я открывал выступление «местными» остротами — такими, которые комик обычно выдает за местные, как будто у него в самом деле нашлось время на то, чтобы выяснить что-то «уникальное» о том городе, где он в данный момент выступает: «Ну, вы тут, ребята, у себя в Ничевойске, все так водите, как будто ограничение скорости — всего лишь рекомендация. Не могу сказать, что тут много чего возведено, но флаг штата не забыт, — наверное, это один из тех оранжевых метеофлажков, предупреждающих о приближении непогоды?» Вдогонку к этому — торопливую пошлость, подтверждающую мнение, которое никто не может оспорить: «Это только мне так кажется или Хрущев на самом деле спятил?»
А потом ждешь, когда стихнут аплодисменты и свист.
Затем шутишь об очевидном — просто чтобы мистер и миссис Белая Америка не слишком нервничали: «Думаю, поглядев на меня, вы поймете… что я ньюйоркец». Дальше приступаю к шуткам про родственников — никто не способен устоять перед шутками про родственников, пускай даже у меня они были выдуманными. Иногда выдуманными. Иногда заимствованными. Сид настаивал на том, чтобы я больше писал собственных материалов. Чтобы вырабатывал собственный голос. Я обещал ему, что постараюсь. Дело времени.
Подмешай к этому немного очарования, личное обаяние, литературное произношение, талант, добавь маслинку, и ты — хороший комик.
Каждую ночь этот коктейль удавался мне на славу, а Бадди затаскивал меня обратно на сцену и выдаивал из публики еще немного аплодисментов для меня. С каждым выступлением я делался все увереннее, а уверенность в себе была тем известковым раствором, который сплачивал воедино мою программу.
Шесть ночей — и гастроли в этом месте завершились. В последнюю ночь я попрощался с Бадди, сказал ему, что почитаю его талант и что мне приятно было бы снова с ним поработать.
Бадди — обращаясь к Сиду и указывая на меня:
— Запомни эти слова, приятель: мне понадобится свидетель через пару лет, когда я захочу выступать у него на разогреве.
Хороший парень. Классный парень.
Следующая неделя: двухнедельная остановка в «Латинском Казино» в Филадельфии, разогрев для Джанис Пейдж. Она очень отличалась от Бадди. Пела медленнее, гуще. Сентиментальнее. После недели в Атлантик-Сити мое представление было похоже на струну арфы. В первую ночь я так настроил публику на этот лад, что потом Джанис пришлось стараться изо всех сил, чтобы соответствовать, и это ей не всегда удавалось. На следующий день ко мне зашел Сид и рассказал, что к нему заходил парень Джанис и попросил передать мне, чтобы я немного попридержал лошадей. Потом Сид добавил: парень Джанис поручил ему передать мне, что Джанис просила меня об этом таким тоном, что если я не соглашусь, то она попросит убрать меня из клуба.
Так я узнал еще кое-что: исполнитель, выступающий на разогреве, должен выступать хорошо — но ни в коем случае не лучше, чем артист, чье имя значится на афише главным.
На следующий вечер я по возможности сдерживал себя — острил поскромнее, то же было и в четыре других вечера: дважды в пятницу и субботу, и на следующей неделе.
Разделавшись с Филадельфией, мы отправились в Кливленд, где на неделю обосновались в «Эмпайре». Потом уехали на поезде в Милуоки, чтобы дать восемь представлений в «Риверсайде».
Пять недель.
Тридцать пять дней.
Я начал кое-что замечать. Ночами, после представлений, иногда я замечал, что чувствую… уныние — пожалуй, я бы это назвал так. Когда битком набитый клуб смеется над твоими прибаутками, хлопает тебе, — это такой кайф, от которого трудно отойти. Но от этого ничуть не легче проводить сумеречные часы в одиночестве, пялясь на скверную живопись на стенах гостиничного номера. После таких бурных выражений любви пустая комната действовала на меня удручающе: я ощущал себя еще более одиноким. Конечно, можно было проводить время с Сидом, но Сид, пусть и друг мне, все-таки не мог бы поднять мне настроение. Оставалось спиртное, но привыкать к нему у меня не было никакого желания. Еще была Томми. Стоило мне только подумать о ней после представления, лежа на кровати и глядя в потолок, и я начинал думать о ней все больше. Чем больше я о ней думал, тем больше мне хотелось услышать ее голос. Я звонил, слышал ее голос… и мне делалось еще более одиноко. Иногда, когда на меня нападала такая тоска, я позволял себе выпить полпорции чего-нибудь, потом засыпал. Если везло, мне снилась Томми.