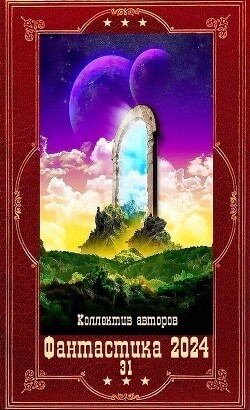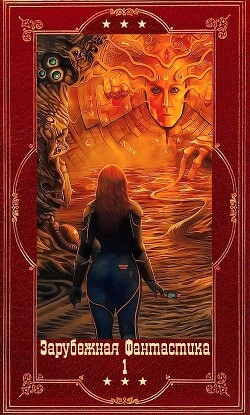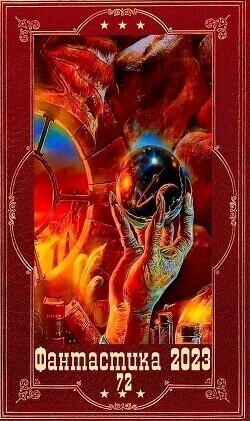Завет воды - Вергезе Абрахам
Эта фантазия о Белгравии в Мадрасе игнорирует реальность трупа бродячей собаки посередине Колледж-роуд; упорно настаивает, что сейчас и в самом деле восьмой день Рождества, несмотря на влажность, которая отвратила бы восемь юных молочниц от любых действий [85], и жару настолько безжалостную, что бродячая собака, оказывается, не сдохла, а просто в обмороке от солнечного удара. Она, пошатываясь, встает на ноги, вынуждая Дигби, вильнув, объехать ее на велосипеде.
Фарфорово-белый дом Клода выделяется на фоне красной глины подъездной дорожки, забитой автомобилями. Керосиновые лампы, расставленные на балюстраде балкона второго этажа и между колоннами первого, создают эффект неземного сияния, по мере того как солнце клонится к горизонту. «Если бы ты столько же внимания обращал на детали, работая в госпитале, Клод», — бормочет себе под нос Дигби. Он колебался, идти ли на рождественскую вечеринку, в конце концов решил, что если не пойдет, их и без того натянутые отношения станут только хуже.
Под навесом стоит сияющий черно-зеленый «роллс-ройс». Не успел Дигби прислонить свой велик к стене, как тут же с понимающей улыбкой его подхватил слуга, давая понять, что компрометирующий предмет немедленно спрячут и никто о нем и не узнает.
Гостиная полна народу. Рождественская елка возвышается над головами, хлопковый «снег» на ее ветвях скукожился и намок в сыром воздухе. Дамы в длинных платьях, некоторые с открытой спиной, а уж без рукавов все абсолютно, с шелковыми накидками на плечах.
Дигби, потный после поездки на велосипеде, больше всего на свете хочет скинуть пиджак, который он надел, перед тем как войти в дом. Он проходит мимо трех дам, повернувшихся к нему спиной, их цветочные духи вызывают в памяти Париж или Лондон. Доносится голос Клода, отдельные слова звучат слегка невнятно:
— …заднее сиденье было единственным местом, где махарани могла выпить, скрывшись за шторкой, пока шофер колесил по поместью.
Женщина задает вопрос, который Дигби не расслышал, но зато слышит ответ Клода:
— «Роллс» никогда не ломается, моя дорогая. В редких случаях может заглохнуть.
Рядом с Дигби застекленный шкаф, набитый спортивными трофеями и фотографиями в рамках: два мальчика в разном возрасте, на последних фото — подростки. Официант предлагает виски, Дигби вместо спиртного берет салфетку. Украдкой проскальзывает в столовую, чтобы потихоньку вытереть там лицо и шею; он чувствует себя бедным родственником, которому тут не место. Массивный дубовый обеденный стол, кубки и металлические подставки для тарелок словно из времен рыцарей короля Артура. Повернувшись спиной к веселящейся толпе, Дигби, все еще безудержно потея, останавливается перед тремя большими пейзажами в рамах. Он злится на самого себя.
Вот что, Дигс. Через пару минут ты ныряешь обратно в это сборище, пожимаешь ублюдку руку, желаешь ему счастливейшего из всех счастливых Рождеств и, поскольку ты не увидишь его в госпитале, пока часы не пробьют Новый год, в довершение пожелай «всего наилуууучшего и щасливого Нового года ему и всем евойным». Но сначала остынь, Дигс, вытри уже лоб и заложи за воротник. Восторгайся живописью — пастбище, да, Клод? Скажи «очень мило» про его убогое озерцо с полевыми цветуечками. Нет, никто прежде этого не отмечал. А последнее полотно… темный лес, говорите? Темная… навозная куча, я бы сказал. Это убожество, благодарю вас. Изысканные золоченые рамы, которые вопиют: «Нам место в музее…» — но они все равно убожество и останутся убожеством. И неважно, насколько громко орешь…
— Не выдающиеся работы, верно? — произносит хрипловатый женский голос.
Он оборачивается и вдруг оказывается неприлично близко к женщине; она высокая и потрясающая. Оба делают шаг назад. Ее мускусные благовония с нотками сандала и древних цивилизаций — полная противоположность парижским ароматам. Его как будто волшебной силой перенесло в будуар махарани.
— Официант сказал, что вы отказались от виски. Я принесла вам гранатового сока. Я Селеста, — улыбается она.
Пожалуйста, только не это! Она не может быть его женой.
— Жена Клода, — представляется она, держа в каждой руке по стакану сока.
Каштановые волосы стянуты серебристой лентой и уложены в узел, открывая шею. У нее треугольное лицо и слегка неправильный прикус, от чего губы кажутся недовольно надутыми. Если начистоту, она прелестна, с этими чуточку андрогинными чертами. На вид ровесница Клода, немного за сорок. Три рубина парят над ее грудиной, цепочка на ключицах едва заметна.
— Дигби Килгур, — протягивает он руку.
Но ее руки заняты. Он берет один стакан.
— Клод говорит, вы настоящий художник.
Откуда, черт побери, он узнал? Она терпеливо ждет ответа.
— Скорее, любитель, — признается он с пылающими щеками. — Просто пытаюсь запечатлеть то, что вижу.
Ее большие глаза цвета каштанового меда согреты сиянием рубинов. В отличие от Клода, отчужденного и надменного, ее взгляд прям и любопытен. Впрочем, у губ он замечает жесткую складку, которая пропадает, когда она улыбается.
— Масло?
— Акварель, — отвечает он. Она ждет. — Я… э, мне нравится загадка, непредсказуемость того, что возникает.
— Вы рисуете портреты? — спрашивает она, склонив голову набок.
Интересно, она отдает себе отчет, что позирует? Она не стремится вызвать неловкость, а, напротив, хочет сгладить ее.
— Иногда — да. Я… в Мадрасе столько всего привлекает внимание. Лица на улицах, женщины в своих сари. Дерево баньяна, пейзажи… — растерянно мямлит Дигби, жестом указывая на картины на стенах.
Она подается ближе и шепчет:
— Дигби, скажите честно, каково ваше мнение об этих картинах?
— Э, что ж… они не так уж плохи.
— То есть вам нравится? — Каштановые глаза пристально смотрят на него. И он не может солгать.
— Ну, так далеко я не стал бы заходить.
Она радостно смеется.
— Они принадлежали родителям Клода. На мой взгляд, они отвратительны — картины, я имею в виду.
Впервые за весь вечер ему становится спокойно.
— Могу я показать вам кое-что? — Она вновь кокетливо наклоняет голову и направляется в другую комнату, не дожидаясь ответа. Он идет следом, не сводя глаз с ее затылка, где тонкие волосы образуют узорчатую беседку.
В гостиной возле лестницы висит простая картина на холсте. Примерно двенадцать на шестнадцать дюймов, в скромной деревянной раме: сидящая индийская женщина, голова повернута в одну сторону, плечи развернуты в другую. Рисунок примитивный, почти детский, но одновременно очень тонкий и выразительный. Без претензий на анатомическую точность или реалистичность, но завораживающе убедительный. Дигби внимательно изучает картину.
— Невероятно! — выдыхает он наконец. — Я хочу сказать, эта линия носа, овалы глаз… эти изгибы, передающие складки сари, позу… — он водит руками, рисуя в воздухе контуры фигуры, — и всего три цвета, но возникает женщина! Вроде бы незамысловато, но это подлинное искусство. Это ваше?
И вновь звонкий смех. Плавный изгиб ее шеи словно повторяет рисунок на картине. Впечатление высокого роста, которое она производит, в основном и создается этой линией да еще длинными худыми руками. Ее изящество граничит с нескладностью, и ему это кажется очаровательным.
— Нет. Это рисовала не я. Но это принадлежит мне. Пришлось побороться, чтобы выставить эту картину на обозрение. Это живопись калигха́т, искусство, которое я видела, когда девочкой росла в Калькутте. Там их штампуют для паломников, приходящих на поклонение из самых отдаленных мест. Обычно на них изображены персонажи Махабхараты или Рамаяны. Будь моя воля, я бы выкинула на помойку то чудовищное старье и выставила вместо них вот это. (Они смеются вместе.) Да, у меня есть целая комната калигхат. — Она поднимает руку, запястье изгибается, когда она раскрывает веером пальцы, словно разбрызгивая калигхат по стенам. Его взгляд скользит по выпуклости трицепса, вниз по скату предплечья, изгибу запястья, костяшкам суставов и от полированных ногтей вновь к стене. Перед внутренним взором возникает комната, увешанная этими своеобразными яркими портретами.