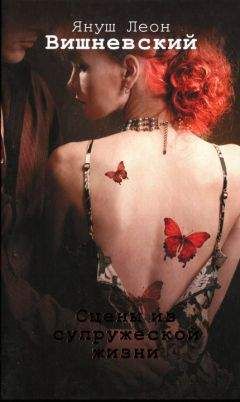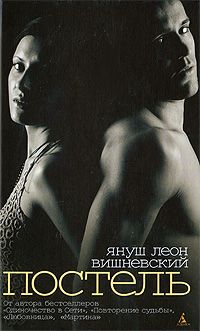Повторение судьбы - Вишневский Януш Леон
«Клею тут свои пептиды…»
Марцин задумался, как одной фразой можно суммировать целую жизнь. Блажей «клеил» пептиды, о которых писали во всем мире. А рассказывал он об этом так, что создавалось впечатление, будто он печет лепешки или готовит бигос. Его брат, профессор, доктор наук из Бичиц, который в интервью на вопрос журналистов, откуда у него такое упорство в стремлении к цели, отвечал, что «он гураль, а гурали все такие, даже если живут у моря».
Марцин восхищался им. И вовсе не из-за того, что какое-то время Блажей был самым молодым профессором в Польше и что Шведская академия наук, та, что присуждает Нобелевскую премию, из всех ученых хлопотала только за него, когда его интернировали после введения военного положения. Но он отказался от досрочного освобождения и от политического убежища в Швеции. Когда Марцин как-то спросил его, почему он не воспользовался редким шансом уехать из Польши, которая мало того что является «музейной страной», но еще и посадила его, как какого-нибудь преступника, в камеру, он ответил:
«Я плохо приживаюсь. Для меня эмиграцией был уже переезд с гор в Гданьск. Жить в двух культурах для меня проклятье, а не благословение. Я это чувствую, когда оказываюсь в Нью-Йорке. Я не желаю впадать в состояние умиления от вкуса бигоса, купленного в поддельно польском, потому что это не польский, магазине на Грин-Пойнт в Бруклине. В отличие от многих я считаю, что Запад существует не для того, чтобы давать, он не подлый – хотя несколько раз нас предавал, – не неблагодарный, и он нас ничуть не недооценивает. Запад прост, как бухгалтерский баланс. Он просчитывает. Когда у него после подсчетов получается плюсовой результат после вычета налогов при принятом уровне рисков, он приступает к переговорам. В Швеции после предварительных подсчетов получилось, что будет рентабельно использовать мой мозг. Надеюсь, ты не веришь, будто какой-то шведский бухгалтер огорчился, узнав, что я в декабре сижу в холодной камере, лишенный телевизора, вегетарианского обеда и прочих основных прав шведского гражданина».
Марцин восхищался братом главным образом за то, что тот никогда не шел ни на какие компромиссы. Когда ректор Гданьского университета, сторонник «Солидарности», попытался по политическим причинам, в основном чтобы угодить новым властям, уволить профессора, бывшего члена партии, которого высоко ценили в мире за научные достижения, Блажей вступился за него и написал в его защиту открытое письмо Леху Валенсе.
А кроме того, он никогда не скрывал, что является атеистом. При этом о Боге он знал все. Он считал, что если не веришь в нечто, «доводящее до коллективных галлюцинаций» целые цивилизации, прежде всего надо это нечто основательно изучить, чтобы иметь возможность противопоставить вере знание. Надо знать ответы на такие банальные вопросы, как, например, для чего при молитве складывают руки, но также и то, чем обосновывается теология «пресуществленной жизни».
В Гданьске, куда приезжали епископы освящать супермаркеты и где присутствие на псевдорелигиозных антисемитских хэппенингах в костеле Святой Бригитты регистрировалось так же тщательно, как при коммунистах участие в первомайской демонстрации, на это смотрели косо. Там предпочли бы перекрасившегося и втайне окрестившегося экс-коммуниста, чем экс-своего, из интернированных, который со своим авторитетом и кристально чистой, безукоризненной «солидарностевой» биографией публично усомнился в существовании Бога и всем в открытую толкует о «ярмарочном характере польского католицизма». Коллеги, особенно из «солидарновцев», часто упрекали его не столько в атеизме, сколько в том, что он его не скрывает. Они усматривали в этом неблагодарность, а некоторые даже доказательство измены Церкви, которая по определению ассоциировалась с оппозицией и культом «польской революции». На это Блажей отвечал с усмешкой:
«Вам это только так кажется. Для вас я атеист, а для вашего Бога – лояльная оппозиция, и я знаю, что мою позицию он уважает…»
Чаще всего, когда не удается атаковать мысль, атакуют ее автора. В случае Блажея и это было невозможно. Он был крещеный, принял первое причастие и был на «ты» с Валенсой. Вдобавок в течение двадцати лет у него была одна и та же жена, студенты в анонимных анкетах называли его лучшим профессором университета, жил он в панельной девятиэтажке, построенной при коммунистах, а его отец был жертвой сталинских чисток. Не к чему прицепиться. Не к чему, как ни старайся. Аскетически бедный святой-атеист, ездящий в пятнадцатилетней «шкоде».
К тому же его невозможно было обвинить в том, что он не знает предмета, о котором говорит. Его можно было публично отлучить от Церкви – что неоднократно делалось – за неверие, но нельзя было ни на минуту усомниться, что религиозными знаниями он обладает. Все знали, что кроме биохимии он также закончил философский факультет и публиковал работы по истории христианской философии. Работы были настолько значительными и написаны были таким понятным языком, что фрагменты из них регулярно публиковал «Тыгодник Повшехны» 10. Это раздражало, провоцировало на колкости, а у некоторых, даже у тех, кто по причине своего сана и связанного с ним авторитета должен быть примером толерантности и всепрощения, вызывало слепую, бешеную ненависть. Марцин помнил нападки ксендза и одновременно профессора Академии католической теологии в Варшаве, который в агрессивном комментарии к одной из статей Блажея в «Тыгоднике Повшехны» презрительно называл его «дизайнером моды современной теологии», а также «посредственным теологом среди биохимиков», чтобы в конце обвинить его в «отвратительной гордыне», написав в заключение, что «человек становится атеистом, когда почувствует себя лучшим, чем Бог». Единственной реакцией Блажея на эту публикацию было письмо, состоявшее из нескольких фраз, в котором он просил редакцию, чтобы она сообщила «в защиту» титулованного теолога, что автором последнего предложения является Фридрих Ницше, поскольку «читатели должны частично оправдать автора, узнав, что не все благоглупости и лживые утверждения в его статье принадлежат ему самому, но часть из них была самым постыдным способом списана, причем у атеиста, каким, вне всяких сомнений, был Ницше, о чем знает даже каждый посредственный биохимик и о чем его преподобие профессор теологии соблаговолил забыть, вероятно, в надежде, что никто не заметит плагиата».
Как-то они беседовали о религии. Это было через два года после того, как заболела мама. Тогда они встретились на несколько часов в Кракове, куда Блажей приехал на какой-то конгресс. Марцин набрался смелости и спросил по просьбе матери, почему дочка Блажея Илонка не приняла еще первого причастия. Брат ответил, что они с Сильвией решили оставить выбор Илонке. Подрастет, сама решит. Так начался их разговор о Боге и религии.
С Блажеем очень трудно разговаривать о таких вещах. Главным образом из-за его обостренного нежелания покоряться авторитетам. Ему казалось, что честность требует, чтобы сомнение и покорность делить поровну между всеми и вся. И покоряться, только когда альтернативы нет. К тому же своими знаниями, сомнениями, а особенно вопросами он вызывал беспокойство.
– Ты веришь, что Бог может быть справедливым, милосердным и бесконечно мудрым, но в то же время незримым, недоступным и безмолвным, как утес? Веришь и не видишь в этом изначального противоречия? Но даже если, по непонятным мне причинам, так оно и есть, то не считаешь ли ты, что всякому Богу была бы отвратительна мысль, что Он является идолом? Что ставят Его изваяния, строят храмы, которые своей доведенной до границ китча роскошью свидетельствуют о гордыне, что пред Ним падают ниц, целуют образа, приносят кровавые жертвы и, как свидетельство любви к Нему, в экстатическом помешательстве пробивают ладони гвоздями. Не считаешь ли ты абсурдным нашу убежденность, что всемогущему и бесконечно совершенному, безгранично доброму Богу присуща одна из самых постыдных людских слабостей, какой является тщеславие и ненасытная жажда аплодисментов? Я не могу поверить в такого Бога… Многие не верят в Бога, потому что для них это слишком обременительно. Я же не верю, потому что это слишком удобно.