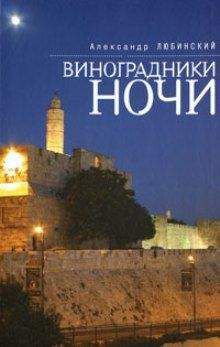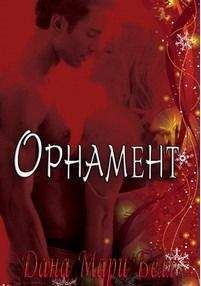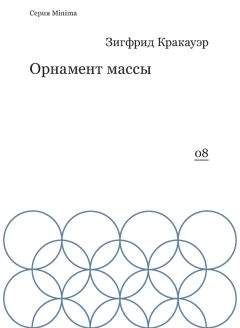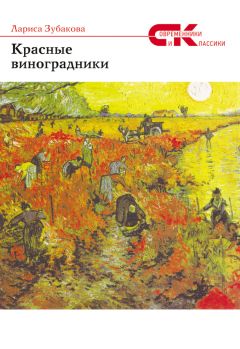Орнамент - Шикула Винцент
Он улыбнулся и прямо посмотрел мне в глаза: — В самом деле? Это хорошо! Только раньше ты все время рассказывал про Иренку.
— Да, правда. Но сейчас дело обстоит именно так.
— Ну, значит все в порядке. Зачем ты мне об этом говоришь?
— Йожо, скоро Пасха. Я бы съездил домой. Не хочешь со мной поехать?
— Нет, не могу.
— А почему нет? Ведь мы и тут живем с тобой вместе. А мой отец — человек неплохой. И мама тоже неплохая. Я был бы рад, если бы ты тоже познакомился с моей семьей. Господи, да знаешь, сколько всего мог бы рассказать тебе мой отец и сколько — мама?
— Нет, на самом деле не могу. Я тебе благодарен, но не могу.
— Ведь, может, и я вовсе не такой уж безбожник. Я только неверующий, но люблю словацкий язык, а еще больше — историю, хотел бы учить детей. Как было бы чудесно, если бы действительно в моей жизни так сложилось: учить, объяснять им, как важно иногда прийти домой, попробовать хотя бы в праздники разрисовать яйцо или взять в руки веточку, где уже набухают почки или сыплется желтая пыльца. Может быть, это кажется тебе глупым, Йожо, но именно так я хотел бы учить их истории. Ведь у истории тоже есть свои почки. Работа учителя кажется мне самой замечательной. Даже снится иногда, что я кого-то учу, что передо мной красивые парты, и сам я хожу вдоль парт, за которыми сидят ученики, а иногда с радостью вижу и себя среди них. Но временами мне уже заранее становится тоскливо среди учеников, и я даже во сне прячусь от них со своей тоской.
— Ты что, с ума сошел?
— Нет, не сошел. Ну, пожалуйста, поедем со мной на Пасху! Знаешь, как обрадуется тебе моя мама? Почему ты не можешь поехать со мной? Поедем, поможешь моей маме разрисовывать пасхальные яички!
— В самом деле, не могу.
Выглядело все так, будто между нами полный порядок. Время от времени мне казалось, что Йожо продолжает что-то в себе сдерживать, и только маскирует это со свойственной ему непосредственностью.
Я собирался домой. И снова повторял, что он, если захочет, может поехать со мной, хотя знал, что он откажется. Я не слишком его уговаривал, поскольку все равно это было бы впустую. А потому просто пообещал привезти ему что-нибудь из дому.
— Тебе не стоит из-за меня так беспокоиться, — заметил он.
Я собрался было уже с ним попрощаться, но показалось, будто он хотел сказать мне что-то еще, но почему-то оборвал свою мысль где-то посередине.
— Хочешь что-нибудь передать? Если бы тебе захотелось…
Его реакция была мгновенной: — И не вздумай снова ехать в Бруски.
— Ты просто как маленький! Неужели подозреваешь меня… И что тебе, собственно, не нравится? Может, они были бы рады, если бы я заехал туда по дороге домой. Но раз ты не желаешь…
Я заметил, как он покраснел. Поправил рукой очки, пальцами прошелся по волосам. Нервно дернул головой. — Одно то, что ты был там недавно, показалось мне излишним. Я ведь говорил тебе однажды… — Йожо хмуро глянул на меня. Я понял, что он начинает злиться, и попытался все исправить, хотя и самому приходилось держать себя в руках.
— Хорошо. Не поеду туда. Да я и не собирался. Это я так спрашиваю, для порядка. — Однако сдержаться мне не удалось. — И сердиться тебе не на что. Кое-что я могу делать и самостоятельно. Не станешь же ты мне запрещать, если я захочу кого-нибудь навестить.
— Я говорил, что тебе незачем ездить в Бруски, а ты все-таки туда поехал. — Он покраснел еще больше и наверняка сам это почувствовал, и потому стал нервно ходить по комнате.
— Но ведь мы, кажется, все уже выяснили. Не понимаю, почему ты смотришь на это с таким предубеждением. Выходит, что я сам по себе не могу ничего решать. Но я же не маленький. И не обязан во всем с тобой соглашаться. Ты же не можешь устанавливать границы моих отношений, будь ты хоть сто раз Эвиным двоюродным братом. Если ты собираешься мной все время командовать, то я ведь и разозлиться могу.
Он остановился посреди комнаты: — Это все-таки моя двоюродная сестра! Я тебя с ней познакомил. Хочешь ты или нет, а это и мое дело тоже. И я не желаю, чтобы ты с ней встречался.
— Нет, позволь! Как мне помнится, я тебе не говорил, что питаю к ней больший интерес, чем к другим женщинам, с которыми встречаюсь, но как бы то ни было, должен сказать, что ни в этом, ни в подобных вопросах слушаться тебя не намерен. Выбрось это из головы! Тебе не кажется, что если бы Эва узнала о твоих взглядах и поведении, то тоже могла бы рассердиться?
— Мои взгляды сюда не приплетай!
— А почему бы и нет?! Ты все время пытаешься меня поучать и на что-то мне указывать, а мне нельзя упоминать о твоих взглядах?! Ты же или говоришь о чем-то, что связано с твоими взглядами и, следовательно, ими обусловлено, или болтаешь попусту и злишься на то, что я не проявляю должного уважения к твоим претензиям. Хочу тебя заверить, что и теперь, и впредь я буду руководствоваться собственным умом, нравится тебе это или нет.
— Ты дурак! — закричал он. — Да ради бога, можешь делать, что хочешь. Бегай за ней! Но не кажется ли тебе, что это неприлично? Поезжай к ней! Поезжай! Только в следующий раз на меня уж не ссылайся! — Он снова быстрыми шагами прошелся по комнате, а потом, когда, казалось, снова успокоился, остановился у тумбочки и начал аккуратно складывать на ней свои вещи. — Ввиду данных обстоятельств мне здесь делать нечего. Сегодня же все соберу и уйду. Для меня здесь все кончено. Что я здесь прожил, постараюсь как-нибудь возместить и смогу спокойно уйти. Все, что я тебе должен, в обозримом времени пришлю. Поезжай в Бруски, скажи им, что я от тебя съехал, что мы не смогли ужиться вместе.
— Ты с ума сошел! Чем я тебе не угодил? Я же сказал, что в Бруски не поеду, но все-таки мне хотелось выразить и свое мнение. Разве тебе не по душе то, что я люблю Эву? Йожо, ведь и ты ее любишь. Думаешь, для меня не лучше было бы поехать в Бруски вместе с тобой? И я не чувствую за собой никакой вины. Эва — хорошая девушка. Я уважаю ее больше, чем любого другого человека. А то, что я говорил минуту назад, было глупо. И вся эта наша ссора случилась из-за того, только не обижайся, пожалуйста, что ты как будто ревнуешь. Но почему, Йожо? Почему тебе обязательно надо ревновать? Ты же с ней никогда не будешь встречаться. Рано или поздно тебе все равно придется смириться с мыслью, что кто-то на ней женится. Или ты предпочел бы, чтобы она ушла в монастырь? Монастырей уже нет, ты это лучше меня знаешь, да ей и не место в монастыре. Так скажи, что ты против меня имеешь? Я встречался с ней… Ты ведь знаешь… Мне уже пора идти, а то на автобус опоздаю. Давай не будем ссориться сейчас, накануне праздников. Будь здоров, Йожо! — я подал ему руку. И он неохотно, как мне показалось, протянул мне свою.
— После праздников мы во всем этом обязательно разберемся. Не волнуйся, все будет в порядке.
Я уже пошел к выходу. Возле дверей еще раз оглянулся, посмотрел на него и примирительно улыбнулся. Он не улыбнулся в ответ, и это меня огорчило, но задерживаться из-за этого я уже не мог.
— Поспеши, а то на автобус опоздаешь — промолвил он.
Действительно, мне нужно было спешить на автобус.
Пасху, сколько себя помню, я любил, пожалуй, даже больше, чем Рождество. И всегда старательно к ней готовился. Прутик с нашей вербы, увешанный желтыми сережками, словно напоминал мне, что зима ушла окончательно, а если бы и вернулась, это был бы лишь мартовский или апрельский каприз, который я еще в детстве научился прощать природе. Холодные весенние дни я даже не принимал в расчет. Зеленый четверг всегда был для меня зеленым, в этом никто не смог бы меня переубедить. Я так сильно ощущал весну, что это прямо бросалось в глаза, а поскольку нечто подобное происходило и с другими, то люди, знавшие эти ощущения с детства и, даже став взрослыми, не забыли их, придумали весенние или пасхальные каникулы. На Зеленый четверг подвязывали колокола, это было нужно для того, чтобы усилить напряжение. Великая пятница была в черном. Женщины и девушки, покрытые темными платками, внешне должны были пробуждать печаль, но в глазах у них сверкали лучики света, и потому они прятали свои взгляды, черный цвет производил впечатление завесы, которая скрывает что-то слишком уж живое. Мы шли помолиться к Гробу Господню. Вырезанный из черешневого дерева, выглаженный пальцами резчика, Христос лежал среди цветов, словно в любой момент готовый подняться и доказать нам, что он, собственно, вовсе и не умер, что сама смерть — всего лишь как зимний сон, в котором природа набирается сил для того, чтобы снова пробиться из земли и расцвести. Надо подождать еще один день — и вот уже Белая суббота, она белее других суббот, самая белая из всех дней. Колокола зазвенят, и мы побежим к ручью умываться. Всех охватывает ощущение настоящей чистоты, наружной и внутренней, поскольку еще раньше, я забыл об этом упомянуть, мы сходили к исповеди. Многое я отдал бы сегодня за такую субботу, за пасхальную неделю, за то, чтобы мне и сегодня кто-нибудь отпустил грехи, а я, как меня учили, мог бы таким же образом отпускать их другим. Не могу забыть радости, которую приносило мне отпущение грехов. Меня часто пугали образом Бога карающего, и тогда мне приходилось его смягчать; Бог все-таки не может быть заинтересован в том, чтобы меня наказать, поскольку наказание, пусть и заслуженное, может вызвать в нас не больше, чем чувство успокоения, но никак не той радости, которую и виновному, и тому, кто имел право судить и наказывать, приносит минута отпущения. Словно мы кому-то, скажем, плохому человеку, хотели показать, что он, в сущности, не такой уж и плохой, что он всего лишь совершил ошибку, что мы все равно видим в нем своего брата. Где-то тут и начинается справедливость. Это кажется простым, но действительность бывает иной, человек сложен.