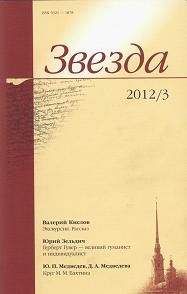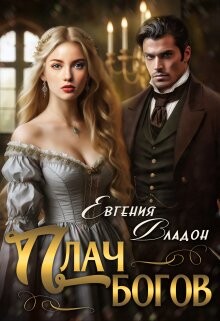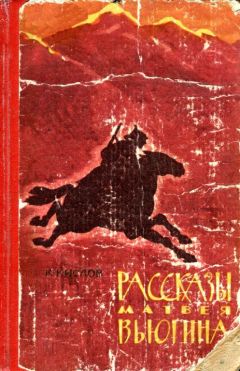Складки (сборник) - Кислов Валерий Михайлович
Через этот вход мы, как фряжские послы, церемонно заходим внутрь и торжественно проходим вперед, рассчитывая…
На что?
На торжественный прием?
На секунду мы задумываемся о причинно-следственной связи между неведением и введением.
И уже начинаем сомневаться в своих расчетах.
Но все равно рассчитываем.
Мы поднимаемся по красной ковровой дорожке, покрывающей широкую мраморную лестницу, следуем по длинному, ярко освещенному вестибюлю с высоким лепным потолком и следим за тем, как наши тени постепенно то удлиняются, то укорачиваются и пропадают в зависимости от изменения нашего местоположения по отношению к четырем источникам освещения — большим бронзовым люстрам с перевернутыми чашами из граненых хрустальных подвесок. Мы проходим вдоль массивных белых колонн с розовыми нервюрами, наши послушные тени успевают за это время удлиниться три раза, укоротиться два раза и — в конце вестибюля — четко застыть на массивной дубовой двери с витой бронзовой ручкой. Белое полотно с жирной запятой. Тень от дверной ручки — четкая, густая, грозная. Словно испугавшись, наши тени замирают; останавливаемся и мы. Нам становится не по себе. Мы отчего-то робеем и даже чуть-чуть пугаемся, хотя бояться вроде бы нечего.
Ведь мы можем предположить, что там, за дверью, откроется большая величественная зала, повторяющая интерьер вестибюля: высокий лепной потолок, толстые белые колонны с нервюрами и большие бронзовые люстры, перевернутые чаши из граненых хрустальных подвесок. Ведь мы можем быть почти уверены, что там, за дверью, торжественная тишина будет царить так же, как она царит в преддверии. В принципе, эта уверенность должна нас не тревожить, а наоборот успокаивать. Ведь нам предстоит уже известное, поскольку мы извещены; нас ожидает знакомое, поскольку мы ознакомлены; нас ждет привычное, почти обычное, чуть ли не обыденное. Но мы не успокаиваемся, а наоборот, продолжаем пугаться, причем не на шутку. Всецело отдавшись испугу, мы даже забываем, что нас напугало. Даже начинаем, что называется, трепетать. Начинает мелко вздрагивать и наша тень. А что может быть страшнее своей мелко дрожащей тени? Особенно, если рассматривать тень не как доказательство своего сущего присутствия, а первый признак своего грядущего отсутствия, так сказать, убывания бытия.
Рассмотреть свою дрожащую тень, бледнеющую в преддверии исчезновения…
У нас трясутся ноги, потеют ладони рук, трусливо бегает взгляд. У нас начинает сводить от ужаса живот. У нас громко урчит в животе. От этого урчания торжественная тишина снаружи становится еще более торжественной, более церемонной и даже какой-то ликующе звонкой, прозрачно кристальной, как если бы она исходила от граненых хрустальных подвесок больших бронзовых люстр. Хотя мы урчим в полном одиночестве, нам все равно неуютно и неудобно. Перед кем? Кого мы потревожили?
Мы стыдимся, что нарушили чужую тишину. Мы смущенно сетуем на то, что наша внутренняя активность выражается так откровенно и грубо. Нас коробит звукопроницаемость наших границ. Нам стыдно, что на ликующий звон и хрустальный свет, входящий в нас столь торжественно и даже церемонно, мы отвечаем столь неприлично. Нам стыдно, что мы не способны соответствовать. Хотя, быть может, мы себя просто недооцениваем?
Мы совершенно некстати задумываемся о том, что если яркий свет, проходя точку, в которой мы трепещем, сменяется густой тенью, то в этом как-то повинны мы сами. Мы словно видим, как луч бьет по бугристой поверхности эпидермы, затем преломляется, разбивается на световые брызги, которые с трудом просачиваются внутрь, а там окончательно рассеиваются и печально угасают.
Задумавшись, мы уже мним себя фигурным, многослойным кожухом, кожаным чехлом, почти непроницаемой оболочкой с участками различной плотности, сложнейшим препятствием для прохождения световых лучей и даже, в некотором роде, неодолимым рубежом, за которым свет подстерегают губительные сумерки. А может, и того пуще: мы рисуем себя таинственным светопоглотителем, урчащим агрегатом по переработке света в тень. Причем для получения густой, плотной, чуть ли не плотской тени нам требуется очень много яркого света. Mehr licht! Мы не сильны ни в физике, ни в геометрии, но причем здесь они? И почему мы должны быть в чем-то сильны?
Мы заходим в тупик.
Зайдя в тупик, мы вдруг осознаем, что перестали урчать (тупики, кстати, иногда будоражат сознание: в тупиках даже самый тупой разум может заостриться, хотя чаще всего — по крайней мере здесь, в тени Рутении — затупляется окончательно). Мы начинаем приписывать нашим мыслям способность влиять на нашу физиологию. Мы вспоминаем о слове «соматическое», но не понимаем, что оно означает и какое оно имеет отношение к нашему конкретному случаю. Быть может, мы о себе слишком высокого мнения? Быть может, мы себя просто переоцениваем?
Быть может, именно для того, чтобы оценить себя объективно, мы робко приоткрываем дверь.
А там…
Мы тут же испуганно ее закрываем. Что там было? Что мы могли там увидеть? Что могло нас так напугать?
Мы пытаемся воссоздать мелькнувший образ, уловить мысль, вообразить ее путь с момента появления в нашей черепной коробке — через блуждание по извилистым меандрам — до окончательного исхода. Вот, допустим, она пришла откуда-то извне, проникла внутрь и двинулась озарять наше мрачное церебральное царство. Просвещать. А передвигаться ей, наверное, нелегко («Маршрут, как кашрут, в Рутении крут», — каламбурим мы о своей родине, и все маршируем): вверх, вниз, направо, налево, с каждым шагом путаясь в волокнах и увязая в рыхлой и липкой массе серого вещества. Удастся ли мысли, заляпанной, отяжелевшей, изнуренной, пройти весь путь и выбраться из этой трясины? Вряд ли. Вот она слабеет, тускнеет, меркнет. И пропадает почти бесследно, пополняя сонм таких же эфемерно мелькнувших и потухших мыслей, лишь усугубляя вековую несуразность своим эффектным, но бесполезным проблеском. Все опять погружается в кромешный обезмысленный мрак. Мы остаемся с нашими базальными ганглиями, корой, таламусом, мозжечком, как и ранее обремененные грязным и грузным бытием.
Нам не остается ничего другого, как опять робко открыть дверь.
Мы робко открываем дверь и робко входим.
А там?
Что мы видим?
Здесь было бы кстати сказать: «А ничего».
Но это не так.
Мы видим огромную парадную залу, повторяющую интерьер вестибюля: высокий лепной потолок, толстые белые колонны с нервюрами и большие бронзовые люстры с перевернутыми чашами из граненых хрустальных подвесок. В зале царит торжественная тишина. В глубине залы — под балдахином — огромный позолоченный трон резного дерева. На нем неподвижно сидит коротенький толстенький человечек в широкой отороченной горностаем мантии, с высокой короной на голове. В руках он держит скипетр и державу. Венценосец кажется игрушечным, поскольку все — зала, трон, мантия, корона, скипетр, держава — для него слишком велико. Ему лет пятьдесят, но выглядит он как ребенок. У царька круглое гладенькое личико, глазки бусинками, носик пуговкой, ротик сердечком с пухлыми губками бантиком, остренький подбородочек, редкие усики и жидкая бороденка клинышком. Он невероятно, чудовищно лопоух.
Мы никогда в жизни не видели таких ушей.
Вот это уши! Царские! Ну и уши!
Мидас да и только…
Мы молча подходим, низко склоняемся и, затаив дыхание, ждем. Вообще-то — по нашей рутенийской привычке все политизировать — нам следовало бы думать о монархии и анархии, о тоталитаризме и демократии, о разнице между подданным и гражданином, о рутенийских трутнях и оборотнях и т. д. и т. п. А мы думаем лишь об ушах. О царских ушах, нежно-розовых, молочно-поросячьих, просвечивающих, с легчайшим пушком, который при малейшем сквозняке…
— Пшол вон, говнюк! — вдруг визгливо кричит венценосец.
Мы быстро выпрямляемся, разворачиваемся и идем, все ускоряя шаг, к двери. Венценосец по-поросячьи визжит нам вслед. Мы выбегаем и захлопываем дверь.
И вышед вон плакал горько…